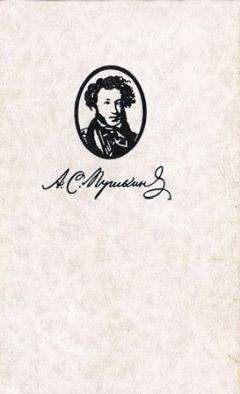«Весь Театр» и участники «Зеленой лампы» – это нечто нераздельное. Уланы, гусары, актеры, игроки – все смешалось в беспорядке ночного кутящего Петербурга. И позднее, в 1823 году, когда Пушкин писал первую главу «Онегина», эти годы испытанного им увлечения театром соединялись в его воображении с нравами «золотой молодежи». Онегин, пообедав не с кем иным, как с Кавериным, спешит в театр, где он, «непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис», с такою же небрежностью, как и все прочие члены «Зеленой лампы», «идет меж кресел по ногам».
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Всё видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился – и зевнул.
И молвил: «Всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел».
Но самому Пушкину Дидло[184] не надоел. Недаром он сделал примечание к этой главе: «Балеты Дидло исполнены живости, воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе». Сам Пушкин не был тем блазированным повесой, каких вокруг него было немало. Сам он своей артистической душой любил театр и не зевал в нем, как его Онегин. Об этом три незабываемые строфы первой главы XVIII–XX. Они предвосхищают труд биографа:
Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой.
Там, там под сению кулис.
Младые дни мои неслись.
Нет, Пушкин увлекался не только легкостью закулисных нравов. Если он ухаживал за актрисами, балагурил и сквернословил, подчиняясь стилю какого-нибудь Мансурова или Щербинина, это еще не значит, что для него театр исчерпывался интересами алькова или светской моды. Портрет Истоминой в XX строфе первой главы тому доказательство:
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола.
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит.
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.
Он смотрит на Истомину глазами артиста прежде всего. Кроме «Зеленой лампы» был еще один театральный центр в столице. Это «чердак» Шаховского. Автор комедий, направленных против Карамзина и Жуковского, теперь не кажется Пушкину таким ничтожным и вредным писателем, как это ему казалось в лицее. Впрочем, и в лицее в 1815 году, записывая свои «мысли о Шаховском», он замечает, что он «неглупый человек».
Катенин уговорил Пушкина поехать на «чердак». Шаховской принял его с распростертыми объятиями. Этот толстый, пузатый урод с крючковатым носом, несколько шепелявый, считал себя знатоком сцены и обучал актеров их ремеслу. Ежова, о которой справлялся Пушкин у Як. Толстого, была сожительницей Шаховского. Она играла комических старух. Чета была гостеприимна и любезна. Пушкин был доволен своим новым знакомством. Позднее, в письме к князю Вяземскому, он писал про Шаховского: «Он, право, добрый малый, изрядный автор и отличный сводник». Последнее замечание было не лишено оснований. На «чердаке» бывали не только театралы, но и актрисы всех возрастов и рангов. Шаховской нередко покровительствовал любовным интригам.
И вот на этом самом «чердаке» бывал и встречался с Пушкиным граф Федор Иванович Толстой, прозванный Американцем, которого Лев Толстой, его двоюродный племянник, считал «необыкновенным, преступным и привлекательным человеком». Он видел своего двоюродного дядюшку в детстве. У него было «прекрасное лицо, бронзовое, бритое, с густыми бакенбардами до углов рта, и также белые курчавые волосы». Этот «преступный» человек провел жизнь, полную странностей и приключений. Он участвовал в кругосветном плавании, побывал в русских американских колониях, за что-то был высажен адмиралом не то на Камчатке, не то на Алеутских островах, и чуть ли не пешком вернулся в Петербург после всевозможных авантюр. Он был дерзкий бретёр,[185] азартный игрок и, может быть, «игрок наверняка». Вместе с тем он был даровит и остроумен. Пушкин считал его своим приятелем, но незадолго до высылки поэта на Юг по Петербургу распространили о поэте нелепую сплетню.[186] Пушкин последний узнал, что автором этой сплетни был Толстой-Американец, и несколько лет тщетно ждал с ним встречи, чтобы вызвать его на поединок.
По преданию, первые строки «Руслана и Людмилы» Пушкин писал на стенах карцера, куда его посадили за какую-то шалость. Сам Пушкин в предисловии ко второму изданию поэмы писал: «Автору было двадцать лет от роду, когда кончил он «Руслана и Людмилу». Он начал свою поэму, будучи еще воспитанником Царскосельского лицея, и продолжал ее среди самой рассеянной жизни…» Однако Пушкин много работал над поэмой. Каждая песня поэмы читалась и обсуждалась друзьями поэта. Три года Тургенев, Жуковский, Карамзин, Батюшков, Вяземский следили внимательно за созданием «Руслана и Людмилы».
В день окончания поэмы Жуковский подарил Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». 1820, марта 26, великая пятница».
Поэма была событием не только в жизни самого Пушкина, но и в истории русской литературы. Тогда, в 1820 году, стихи романтической поэмы прозвучали для современников так же неожиданно, как стихи символистов в первые годы нашего века. Литературным староверам казался непозволительным и дерзким новшеством легкий, прозрачный, вольный стиль этой поэтической шутки. Жуковский и прочие друзья поэта простили Пушкину его пародию на «Двенадцать спящих дев».[187] Поэма была оправдана как победа романтизма. Пушкину не ставили в укор, что все сюжетные элементы поэмы заимствованы из разных источников. Эпизод с живою головою, очарованный замок, шутливая характеристика Людмилы – все это было предметом поэтических высказываний до Пушкина. Поэт воспользовался и «Неистовым Роландо» Ариосто,[188] и «Девственницей» Вольтера, и сказками, собранными Михаилом Чулковым,[189] и сказками Гамильтона,[190] и повестью о Еруслане Лазаревиче, и поэмою Н. Радищева[191] «Альоша Попович»… В поэме не было ничего оригинального ни в сюжете, ни в идее. В сущности, идеи и вовсе не было. Это было до странности «безыдейное» произведение. И вот, однако, эта поэма была событием! В чем же тайна этого очарования? Спустя четверть века критики писали о Пушкине: «Стих русский гнулся в руках его, как мягкий воск в руках искусного ваятеля; он пел у него на все лады, как струна на скрипке Паганини». В самом деле, в этой певучей стихии пушкинской поэзии читатель упивался гармонией, не смея требовать от автора ни оригинальной фабулы, ни значительной идеи. Все пушкинское творчество 1817–1820 годов по сравнению с тем, что было сделано Пушкиным позднее, нам теперь кажется детским лепетом. Но для своего времени это был гениальный лепет.
Друзья были в восторге. Надо было печатать поэму. Но тогда обстоятельства сложились так, что Пушкину не пришлось самому участвовать в ее печатании. Над Пушкиным собрались грозные тучи. По городу ходили слухи, что правительство сошлет поэта в Соловецкий монастырь. Оказывается, вольнодумство Пушкина обратило на себя внимание властителей.
Сам император Александр помнил Пушкина очень хорошо. Как же! Это тот самый лицеист, который поцеловал по ошибке фрейлину Волконскую! Но не только это помнил Александр Павлович. До него дошли слухи о вольных стихах поэта. Генерал Васильчиков[192] показывал ему в прошлом году «Деревню» Пушкина. Так посоветовал Чаадаев в расчете на то, что царю понравится упоминание о нем, Александре, как о будущем «освободителе» народа.
Но в стихотворении были очень сильные обличительные строки:
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея…
Эти стихи могли бы прозвучать как революционные, но заключение пьесы делало ее невинной. Поэт восклицает: