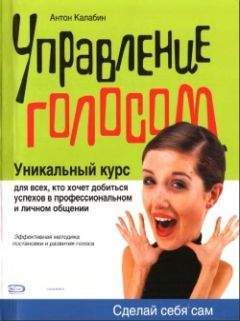Шаляпин, не получив по бедности образования, имел редкое свойство как губка впитывать в себя самое ценное из окружающей среды, которую подчас он сам и формировал для себя. Попытки соединить речь и пение Шаляпин не оставил, попав на сцену Мариинского оперного театра. Здесь, как и в детские годы, ему приходилось выслушивать, но уже от музыкального начальства, нарекания и издевки. Ему приходилось слышать такие замечания, от которых у многих опустились бы руки и отпала охота делать «не как все», т. е. ровно тянуть ноту, следя в первую очередь за звуком, а не за смыслом, как это пытался делать ищущий Шаляпин. Например, как только Шаляпин пытался внести в роль что-то свое, режиссер И. И. Палечек его грубо останавливал: «Что вы еще разводите тут какую-то игру? Делайте, как установлено! Были и поталантливее вас, а ничего не выдумывали! Все равно лучше не будет!..»
Убедившись в том, что соединение речи с пением не очень-то удается, Шаляпин все свое свободное время (а его было предостаточно, так как в театр он был взят на далекую перспективу) начал проводить в Императорском Александринском театре, пытаясь постигнуть секреты звучащего слова и актерского мастерства. Можно смело сказать, что наилучшей школой Шаляпина было отсутствие таковой, ибо он не успел наработать неправильных навыков, от которых затем очень трудно освободиться. Усвоенная им в раннем детстве манера речевой подачи вокального звука удачно совпадала с главным принципом физиологии человеческого голоса — минимизацией физических усилий при звукоизвлечении. Именно поэтому, думается, он и подходил с такой тщательностью к работе над ролью. Шаляпин постоянно подчеркивал, что он, находясь на сцене, ни на секунду не теряет контроля над своими действиями, а следовательно, и эмоциями. Именно потеря эмоционального контроля приводит к изменениям в дыхании и, следовательно, ко всем вытекающим отсюда отрицательным последствиям. И вот как он это объясняет в своей книге «Маска и душа»: «Когда я пою, воплощаемый образ предо мною всегда на смотру. Он перед моими глазами каждый миг. Я пою и слушаю, действую и наблюдаю. Я никогда не бываю на сцене один… На сцене два Шаляпина. Один играет, другой контролирует. «Слишком много слез, брат, — говорит корректор актеру. — Помни, что плачешь не ты, а плачет персонаж. Убавь слезу». Или же: «Мало, суховато. Прибавь». Бывает, конечно, что не овладеешь собственными нервами. Помню, как однажды, в «Жизни за царя», в момент, когда Сусанин говорит: «Велят идти, повиноваться надо», и, обнимая дочь свою Антонину, поет:
«Ты не кручинься, дитятко мое,
Не плачь, мое возлюбленное чадо», —
я почувствовал, как по лицу моему потекли слезы. В первую минуту я не обратил на это внимания, — думал, что это плачет Сусанин, — но вдруг заметил, что вместо приятного тембра голоса начинает выходить какой-то жалобный клекот… Я испугался и сразу сообразил, что плачу я, растроганный Шаляпин, слишком интенсивно почувствовал горе Сусанина, то есть слезами лишними, ненужными, — и я мгновенно сдержал себя, охладил. «Нет, брат, — сказал контролер, — не сентиментальничай. Бог с ним, с Сусаниным. Ты уж лучше пой и играй правильно…»
Этот случай в наиболее яркой форме подтверждает нашу мысль о существовании в феномене шаляпинского пения двух компонентов — психологического и физиологического, — одновременное взаимодействие которых и породило явление, к которому вот уже более ста лет никто не может приблизиться. И как в связи с этим не вспомнить нашего выдающегося соотечественника Владимира Стасова, писавшего о Шаляпине: «Ни в какой школе он не был, ни в каких классах не сидел, не учился никаким предрассудкам. Каким-то чудом он уберегся от педагогической дрессировки, худых задач и примеров, особенно же уберегся он от Музыкальной Италии, пожравшей и обезобразившей столько поколений».
Шаляпин добился таких выдающихся результатов только потому, что он в самом начале своего творческого пути сумел понять, что пение — это та же речь, но выражаемая иными, более тонкими интонационно-музыкальными средствами, что требует не тренировки в механических приемах звукоизвлечения, а гармоничного развития личности. Непрестанное стремление к самосовершенствованию, неудовлетворенность достигнутым, постоянная готовность изменять то, что уже как будто вылилось во вполне художественную форму, было неотъемлемым свойством таланта Шаляпина. Его манеру пения можно выразить формулой «говорить и петь одновременно».
На мой взгляд, методика Багрунова в наибольшей степени раскрывает секреты шаляпинского пения, и, возможно, кому-то из тех, кто сегодня читает эту книгу, удастся хотя бы немного (а может, и не немного!) приблизиться к феноменальному артисту.