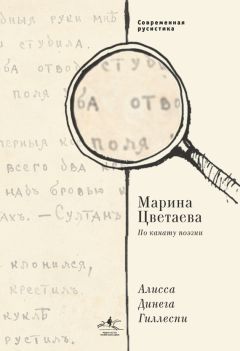Из этого столкновения рождается ряд образов мощного воздействия Ахматовой на читателей, соединяющего удовольствие и страдание, которые напоминают сходную образность стихотворения «Имя твое…». Это воздействие точно выражено в соположении эпитетов в первой строке стихотворения Цветаевой («О, Муза плача, прекраснейшая из муз!..»): Ахматова одновременно муза и печали, и красоты. То, что два эти качества названы одно за другим, даже дает основание предположить, что второе есть следствие первого: что своей красотой Ахматова обязана своей печали (и, имплицитно, способности вызывать печаль в других, причинять боль). Вторая строка стихотворения усиливает эту связь, одновременно переворачивая иерархию влияний: «О ты, шальное исчадие ночи белой!». Необычная, ни с чем не сравнимая красота петербургской белой ночи породила демоническое исчадие, которое при этом шаловливо, как капризный ребенок[101]. Порождение белой ночи насылает на всю Русь черную метель (по-видимому, это метафорический образ поэзии Ахматовой). Как имя Ахматовой – это обман, скрывающий безымянность, так и изысканная, отчетливая красота ее поэзии, когда ее строки достигают своей цели (то есть сердец слушателей), превращается в безъязыкие «вопли» голой страсти: «И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы».
В третьей строфе стихотворения продолжается раскрытие парадоксального соединения удовольствия и боли:
Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами – то же!
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.
Дар, который Ахматова приносит читателям, одновременно их возносит («мы коронованы», «уже бессмертным») и опустошает («ранен смертельной твоей судьбой», «на смертное сходит ложе»). Говоря, что горда делить с Ахматовой землю и небо, – символизирующие, соответственно, повседневность и потусторонность – Цветаева весьма заметно иронизирует. Прежде всего об этом свидетельствует то, что, по Цветаевой, духоподъемно для человечества само существование Ахматовой, а не ее поэзия. Цветаева намекает на то, что Ахматова – мученица-самозванка, а ее печаль и красота разыграны в расчете на эффект. Здесь интерпретация Жолковского снова близка к цветаевской: он пишет об излюбленной ахматовской «позе лежа, которая делает ее объектом всеобщего внимания, жалости, помощи, а ее постель – центром власти»[102]. Невозможно не заметить явно амбивалентного отношения Цветаевой к позированию Ахматовой, сочетающему святость с демонизмом; это позирование Цветаева находит и возбуждающим, и нескромным.
Созвучна этому двойственному отношению и заключительная строфа стихотворения «О, Муза плача…»: под тонким покровом на первый взгляд искреннего, прямого восхищения сестрой в поэзии сопернице брошен серьезный вызов:
В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий…
И я дарю тебе свой колокольный град,
– Ахматова! – и сердце свое в придачу.
Вызов этот состоит из трех элементов. Первые два относительно очевидны: это образ «певучего/колокольного града», Москвы, который Цветаева дарит Ахматовой в обмен на обманные белые ночи Петербурга; и «Спас светлый», противопоставленный мрачным ахматовским посулам трагического мученичества. А вот смысл третьего образа триады, «слепец бродячий», очевиден не сразу. Я склонна интерпретировать эту фигуру как ответ Цветаевой на темную угрозу, таящуюся для нее в Ахматовой, и как персонификацию того идеального образа вдохновения, который ищет Цветаева. По контрасту с женственностью Ахматовой, это фигура мужская, по контрасту с молодостью и красотой Ахматовой, бродячий слепец (вероятно) стар и убог. Это истинный Другой – тот, кого Цветаева может любить и уважать, без необходимости бороться ни с подавляющей стихийностью, как в случае Ахматовой, ни с мучительной недоступностью трансцендентности, воплощенной в Блоке. В то же время слепец – духовный двойник Цветаевой, ее альтернативное мужское «я», ибо он обладает основными качествами истинного, в ее понимании, поэта – слепотой и жаждой странствий. Слепота и ее вариации – опущенные глаза, запавшие веки, – в поэзии Цветаевой устойчиво служат символами поэтического ясновидения. Невыдуманность, бессознательность ясновидения этого простеца отчетливо противопоставлена осознанной драматической позе прорицательницы у Ахматовой. То, что слепец – странник, дает еще больше оснований рассматривать его как эмблему поэтического идеала Цветаевой, ибо и она – странница по природе и по призванию; ее безостановочность и беспокойство синонимичны ориентированному вовне вектору поэтического стремления[103].
Тайный вызов, который Цветаева бросает Ахматовой в заключительной строфе стихотворения «О, Муза плача…», не оставляет сомнений в том, что, якобы преподнося Ахматовой щедрый «дар» (то есть стихотворения этого цикла), она на самом деле размечает свою поэтическую территорию, утверждая истоки собственной поэтической силы, неподвластные колдовскому заговору Ахматовой[104]. Для этого она призывает себе на помощь все силы древней Москвы, воплощенные в разных ее аспектах – религиозном («светлый Спас» русского православия), народном (бродячий слепец), историко-архитектурном (колокольный град) и языковом (старославянское слово град). Все эти грани московского наследия Цветаевой соединяются в кристалле ее поэтического восприятия и создают новую сущность, принадлежащую ей одной – пространство вместе реальное и мистическое: певучий град с горящими куполами[105]. Использование на протяжении первых трех строф стихотворения первого лица множественного числа также служит укреплению ее обороны властью чисел. Однако о том, что приоритет Цветаевой – не в сообщничестве с другими, а в развитии своей индивидуальной личности свидетельствует переход к единственному числу в последней строфе, где она всю Москву забирает в личную собственность: «В певучем граде моем <…> И я дарю тебе свой колокольный град…» (курсив мой. – А. Д. Г.). Образ народа служит лишь еще одним оружием в репертуаре ее поэтических стратегий, используемых в битве за определение собственного «я», личного голоса[106].
Цветаева понимает, что поэтическая порода Ахматовой совершенно отлична от ее собственной – поскольку их женские породы различны. Ахматова – странный гибрид: красавица, как не умеющие писать стихи Ася или Надя, и при этом поэт, как некрасивая Марина. Если Блок способен трансцендировать разрыв между телом и духом, то Ахматовой удается достичь тонкого равновесия и совершенства в обоих аспектах: она движется по бесконечному кругу, где она одновременно и поэт, и муза[107]. Потенциально эта стратегия значима для Цветаевой, поскольку Ахматова тоже женщина и должна испытывать те же затруднения в области вдохновения, что и Цветаева. Однако Ахматова не удовлетворяет Цветаеву ни как муза, ни как наставница в мифе обретения вдохновения. Ахматова как «муза плача» ввергает Цветаеву-поэта в состояние бреда и творческого паралича, отчасти сходное с тем, чем грозил ей Блок; нанизывание в «О, Муза плача…» доязыковых высказываний («вопли», «глухое: ох!», «вздох») и отсылка к пугающему пространству афазии («глубь безымянная») – свидетельства этой угрозы. С другой стороны, Цветаева не может подражать стратегиям вдохновения, которые использует Ахматова как поэт, и воспринимать себя самое как музу, поскольку авторефлексивная поза Ахматовой перед зеркалом для Цветаевой недоступна (Ахматова красива; ее отражение – легитимный, хотя и эгоцентрический, импульс для вдохновения) и не отвечает ключевой для ее вдохновения необходимости – необходимости выхода в иное, выхода, который является побуждающей целью поэтического вектора присущей ей страсти.
Сама же Ахматова в качестве выхода для поэтической страсти Цветаевой – выбор опасный и неудачный. Во втором стихотворении цикла Ахматова подавляет естественный творческий порыв Цветаевой, в самом буквальном смысле захватив ее голос. В начале стихотворения «Охватила голову и стою…» вторжение яростной мощи ахматовского таланта в поэтическое пространство Цветаевой передано ономастическим отзвуком:
Охватила голову и стою,
– Что людские козни! —
Охватила голову и пою
На заре на поздней.
Начинающий строку глагол прошедшего времени двусмыслен: на место его неназванного женского субъекта можно подставить как я (Цветаева), так и она (Ахматова). Эта путаница разрешается только со вторым, настоящего времени, глаголом стою, форма спряжения которого проясняет, что мы имеем дело с речью от первого лица. Впрочем, оттенок исходной двусмысленности сохраняется, поскольку, хотя подразумеваемый субъект этого предложения – Цветаева, эхо фамилии Ахматовой в открывающем стихотворение глаголе (охватила) сопротивляется грамматическому упорядочению. Зловещее присутствие Ахматовой проникает в этот глагол и, следовательно, в грамматическую целостность всего стихотворения, так что жест, каким Цветаева охватывает свою голову, пораженная мощью ахматовского поэтического присутствия, незаметно превращается в репрессивный жест, каким Ахматова охватывает/сжимает голову Цветаевой («она охватила мне голову») путами своей соперничающей со Цветаевой и подавляющей ее лирической мощи. Иными словами, в первой строке стихотворения первоначально (ошибочно) предполагаемый субъект «она» одолевает имплицитный (подлинный) субъект «я»; в результате перед нами описание опыта не уединенного удивления, а нарушенной личной идентичности. Ведь Ахматова вторгается не только в телесное и личное пространство Цветаевой, но и во внутреннюю связность ее речи, ее грамматики; то, что Ахматова стискивает Цветаевой именно голову, становится точным образом нарушения как физической, так и умственной целостности.