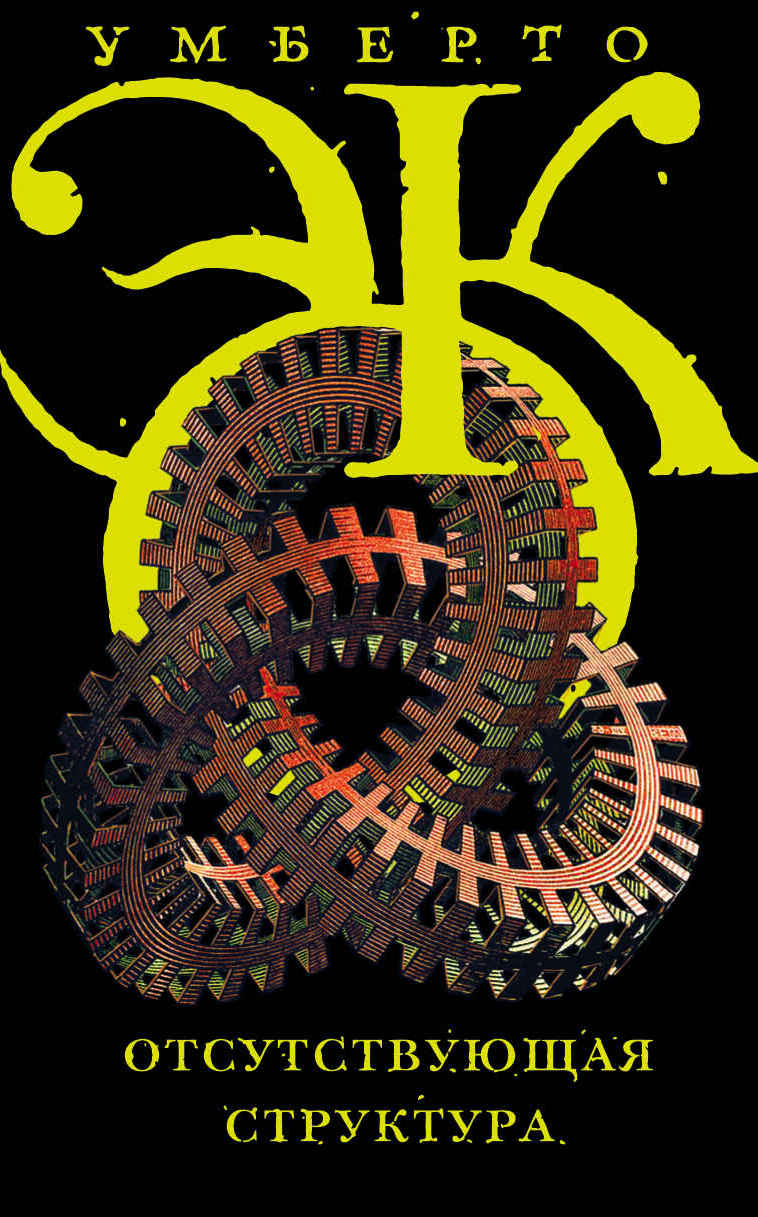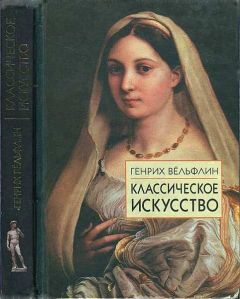Если эстетическое сообщение всегда осуществляется, как полагает художественная критика, с
нарушениями нормы [74], и это нарушение представляет собой не что иное, как расшатывание основного кода, то расшатывание это происходит на всех уровнях по единому правилу Это правило, этот код произведения по сути и есть
идиолект, определяемый, как известно, как
особенный, неповторимый код говорящего, фактически же этот идиолект рождает множество имитаций, определенную манеру, стилистический прием и в конце концов новую норму, как свидетельствует вся история искусства и культуры.
Когда эстетика утверждает, что целостный облик произведения искусства можно угадать даже в том случае, когда оно неполно, разрушено, попорчено временем, это объясняется тем, что код сохранившихся слоев произведения позволяет восстанавливать код отсутствующих частей, провидя их [75]. В конечном счете искусство реставрации состоит в том, чтобы из уцелевших частей сообщения дедуцировать недостающие. Само по себе это представляется невозможным, ведь восстановлению подлежат те части, при создании которых художник выходил за рамки традиций, навыков, технических приемов своего времени (если он не чистый эпигон): но реставратор, как и критик, музыкальный исполнитель, тем и занимается, что выявляет скрытое правило произведения искусства, его идиолект, тот структурный рисунок, который проступает на всех уровнях [76].
II. 2. Может показаться, что понятие идиолекта противоречит идее неоднозначности сообщения. Неоднозначное сообщение располагает меня к перебиранию возможностей его интерпретации. Каждое означающее обрастает новыми смыслами, более или менее точными, уже благодаря не основному коду, который нарушается, но организующему контекст идиолекту, а также благодаря другим означающим, которые, пересекаясь, оказывают друг другу ту поддержку, которой им не предоставляет основной код. Так, произведение безостановочно преобразует денотации в коннотации, заставляя значения играть роль означающих новых означаемых.
Процесс дешифровки нескончаем, и мы склонны считать, что все, что мы видим в произведении, в нем действительно есть. Нам кажется, что сообщение «выражает» все те всевозможные смыслы, чувства и инстинктивные движения, что пробудила в нас неоднозначная и авторефлексивная структура сообщения.
Но если сообщение-произведение, распахивая перед нами веер коннотаций, позволяет нам увидеть в нем все то, чем мы сами благодаря его структуре его же и наделили, то не апория ли это? С одной стороны, перед нами сообщение, структура которого обеспечивает возможность бесчисленных прочтений; с другой – это прочтение до такой степени свободно, что не позволяет формализовать структуру сообщения.
Тут-то и возникают две проблемы, которые можно рассматривать порознь, и в то же время они тесно связаны между собой:
а) эстетическая коммуникация – это опыт такой коммуникации, который не поддается ни количественному исчислению, ни структурной систематизации;
б) и все же за этим опытом стоит что-то такое, что несомненно должно обладать структурой, причем на всех своих уровнях, иначе это была бы не коммуникация, но чисто рефлекторная реакция на стимул.
И тогда мы имеем дело, с одной стороны, со структурной моделью функционирования знака в процессе потребления, с другой – со структурой сообщения, которая прослеживается на всех его уровнях.
II. 3. Рассмотрим первый пункт (а). Очевидно, что, когда мы смотрим на дворец эпохи Возрождения с фасадом из ограненного камня, он представляется нам чем-то большим, чем его архитектоника, пропорции, общий вид фасада; сама бугристая фактура материала, который так и хочется потрогать, пополняет наше восприятие чем-то таким, что не поддается окончательной и точной формулировке. С этим связана возможность определения структуры произведения в понятиях системы пространственных отношений, воплощенных в данном случае в ограненном камне. Причем анализу подлежит не какой-то отдельный камень, но связи между общей системой пространственных отношений и фактурой ограненного камня; только учет этих связей поможет в дальнейшем наиболее полно выявить и описать картину структурных зависимостей, обнаруживая, таким образом, уникальный код произведения, притом что в принципе отдельные камни взаимозаменяемы и какие-то незначительные изменения в фактуре не влияют на характер целого.
Однако, разглядывая камень, трогая его, я испытываю непередаваемые ощущения, которые составляют часть моего восприятия дворца. Уникальность этих восприятий предусматривается самим контекстом неоднозначного сообщения, которое является авторефлексивным в той мере, в какой я могу считать его формой, обеспечивающей возможность разных индивидуальных восприятий. Но в любом случае произведение искусства интересует семиологию только как сообщение-источник и, стало быть, как код-идиолект, как исходный пункт для ряда возможных интерпретирующих выборов: произведение как индивидуальный опыт умопостигаемо, но не исчисляемо.
Следовательно, феномен, который мы позволили себе назвать здесь «эстетической информацией», есть не что иное, как ряд возможных интерпретаций, не улавливаемых никакой теорией коммуникации. Семиология и любая эстетика семиологического толка всегда в состоянии сказать, чем может стать произведение, но никогда, чем оно стало. То, чем стало произведение, лучше всего может сказать критика как рассказ об опыте индивидуального прочтения.
II. 4. Переходим ко второму пункту (б). Сказать, что свободное толкование сообщения, обусловленное определенным набором коннотаций, связано с наличием в нем каких-то «экспрессивных» знаков [77], означает всего лишь сведение вопроса «б» к вопросу «а». Нам уже известно, что эстетическое сообщение открыто разнообразным наслаивающимся друг на друга толкованиям. Вполне представима эстетика, которая дальше такого признания не пойдет, и в какой-нибудь философской эстетике такое утверждение может считаться пределом ее теоретических возможностей. Затем приходит черед ложных нормативных эстетик, предписывающих искусству, что и как оно должно делать – отражать, выражать, учить и т. д. [78]
Однако, занимаясь семиотическим анализом эстетического сообщения, следует говорить не об «экспрессивных» приемах, но о возможностях коммуникации, связанных с кодом, его соблюдением или нарушениями.
В ином случае приходится различать семантическую информацию и «эстетическую информацию» [79]: первая может быть представлена как система отношений, не зависящая от какого-то конкретного физического носителя, вторая же, напротив, укоренена в определенном материале, небезразличном к самой информации. Конечно, наличие уровней, которые Бензе называет сенсорными, сказывается на структурировании всех прочих уровней, определяя их коммуникативные возможности, но проблема в том и состоит, чтобы выяснить, можно ли также и применительно к этим уровням говорить о существовании кода. Итак, понятие эстетического идиолекта, предполагающее, что сообщение с эстетической функцией представляет собой некую форму, в которой различные уровни означаемого не могут быть оторваны от уровня физических носителей, собственно говоря, и подразумевает изоморфность структуры всех уровней сообщения. Такая структура могла бы служить для определения через оппозиции также и материальных элементов произведения.
Речь идет не только о том (как это было в а.3.1.6), что в произведении искусства устанавливается некая связь между уровнями значений и явленностью материальных элементов. Речь идет о том, чтобы и эту еще сырую материю по возможности структурировать. Редуцируя также и ее к системе отношений, нам удается обойтись без сомнительного понятия «эстетической информации».