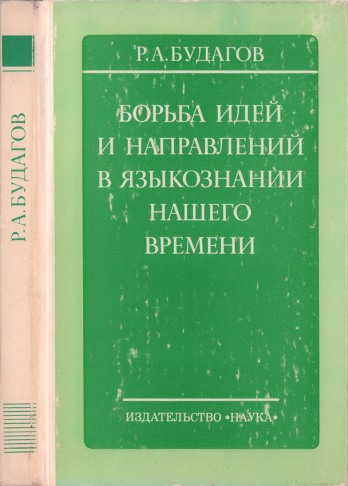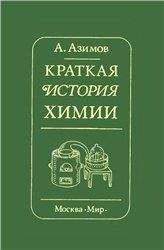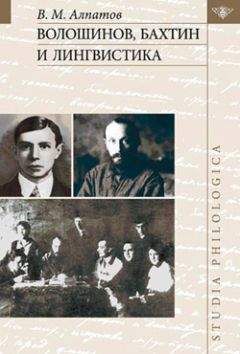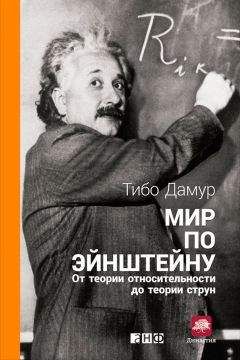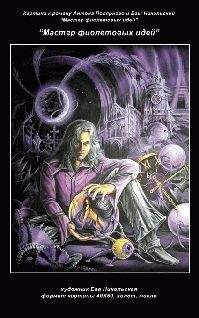для всех людей, независимо от их эстетических или каких-либо иных индивидуальных побуждений. Как бы чувствуя уязвимость своей концепции, немецкий филолог стремится укрепить ее указанием, что язык – это не только творчество (Schöpfung), но и развитие (Entwicklung), в сфере которого возможна повторяемость. Но, по убеждению автора, активное начало в языке всегда определяется индивидуальным лингвистическим творчеством. Универсальная эстетическая функция языка у Фосслера не уживалась с известным «шаблоном» лексических и грамматических построений, без которых язык не может служить средством общения всех людей, для которых данный язык является родным или усвоенным.
Сам Фосслер и его многочисленные ученики и последователи сделали немало в изучении языка и стиля художественной литературы разных эпох и народов, но последовательное неразличение и неразграничение коммуникативной и эстетической функций языка привело к тому, что в недрах этой научной школы центральная функция языка (функция общения) оказалась отодвинутой на самый задний план. Тем самым неправомерно осмыслялось основное назначение всякого национального языка [164].
Но если у Фосслера отрицание известной самостоятельности слова мотивировалось общей эстетической концепцией языка, то в некоторых направлениях современной лингвистики подобное отрицание мотивируется релятивистической концепцией языка: язык существует лишь в процессе его функционирования.
«Текст, – читаем мы у сторонников подобной доктрины, – это единственная реальность языка» [165].
В такого рода заявлениях весьма характерны определения – единственный, единственная.
«Значение слова существует только в процессе его употребления» (с подчеркнутым «только») [166].
За пределами данного употребления слова оказываются фикцией.
В свое время один из исследователей утверждал: так как существительное лев для ребенка, для зоолога и для охотника каждый раз представляется в разном психологическом ореоле, то об общем значении слова лев говорить не приходится. Все определяется контекстом, все зависит от ситуации, которую некоторые лингвисты называют ситуацией hic et nunc (здесь и теперь) [167]. Любопытно, что эксперимент со львом уже фигурировал у исследователей прошлого столетия. В свое время Вегенер утверждал, что в предложении «Лев может разгрызть любую кость» и «Лев – благородное животное» существительное лев будто бы выступает в совершенно различных значениях: в первом случае – «нечто сильное», во втором – «нечто благородное» [168].
В действительности, однако, в обоих контекстах лев имеет, разумеется, одно и то же значение, хотя и акцентированное неодинаково: «крупное хищное млекопитающее, семейства кошачьих». Доказательство: приведенное определение сохраняет свою полную силу для обоих приведенных контекстов. Нежелание считаться с подобного рода совершенно необходимыми обобщениями приводит к неправомерному растворению языка в сумме разрозненных контекстов. Обобщающая сила языка сводится на нет. Контекст приобретает не только всемогущее значение. За его пределами существование языка объявляется иллюзорным.
«Слова и предложения – заявляет один из современных западногерманских лингвистов – за пределами того или иного контекста – это сплошная фикция» [169].
Как я уже отмечал, в разных направлениях лингвистики нашего времени наблюдается острое столкновение двух противоположных доктрин: один ученые утверждают, что значение слова – это сумма его возможных сочетаемостей с другими словами, другие исследователи склонны считать, что значение слова вовсе не зависит от контекстной ситуации. Французский лингвист Ж. Мунен так формулирует подобное столкновение концепций:
«…все зависит от ситуации, ничего не зависит от ситуации» [170].
И дело, разумеется, не в том, что крайности нехороши, как предполагает только что названный ученый.
Дело в том, что обе, внешне противоположные точки зрения, полностью сходятся в своем нежелании считаться с реальными материалами языков мира. Этот же материал показывает (см. следующий раздел), что каждое слово любого естественного языка сохраняет свою известную самостоятельность независимо от других слов того же языка, сохраняет свое общее (основное) значение. Вместе с тем контексту тоже принадлежит важная роль: слова уточняются в контексте, приобретают дополнительные акценты и оттенки. И в этом нет ничего удивительного, если постоянно помнить о полифункциональности любого естественного языка, в особенности языка, с богатой исторической и литературной традицией.
Обратимся теперь к материалу. В первой половине минувшего столетия существительное позор еще осмыслялось этимологически: то, что представляется взору, зрелище. У Е.А. Баратынского, например, в стихотворении «Последняя смерть» (1827 г.) читаем:
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов и гор.
В этом двустишии позор имеет значение «зрелища». Это же осмысление слова часто встречается и у А.С. Пушкина, в частности, в «Руслане и Людмиле»:
Но между тем какой позор
Являет Киев осажденный?
Какой позор = какое зрелище. Вместе с тем у Пушкина находим и современное значение («бесчестье») существительного позор:
И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:
Она забыла стыд и честь,
Она в объятиях злодея!
Какой позор!
Здесь позор – уже бесчестье. В современном языке позор в значении «бесчестье» выдвигается на первый план, становится общим (основным) значением этого слова, тем самым оттесняя на задний план старое, этимологическое его осмысление («зрелище»). Однотомный «Толковый словарь» С.И. Ожегова (1972 г.) определяет: «позор, бесчестье, постыдное… положение…» Более старый и более полный «Словарь» под редакцией Д.Н. Ушакова еще отмечал (как устаревшее) значение: «то же, что позорище, зрелище».
Новое современное значение слова позор («бесчестье») несомненно возникло из различных контекстных сочетаний этого существительного с другими словами: например, вывести на позор, т.е. на всеобщее обозрение, столб позора – первоначально столб, к которому привязывали преступника для всеобщего обозрения (позор – зрелище, обозрение). Позднее подобное пребывание у столба стало восприниматься как постыдное, а само слово позор, утрачивая свои этимологические связи со «зрелищем», постепенно стало обозначать уже не «зрелище», а «постыдное положение». «Зрелище» оказалось устаревшим, отодвинулось на задний план полисемантичного слова.
Примеры подобного рода создают внешнее впечатление, будто бы значение слова – это и есть сумма его возможных контекстных сочетаний. Между тем при более пристальном и глубоком рассмотрении оказывается, что это совсем не так. Возвращаясь к нашему примеру, заметим: на семантику старого осмысления существительного позор действительно повлияли определенного рода сочетания слов. Но новое значение позора («бесчестье»), однажды возникнув из определенных сочетаний, теперь сохраняет это значение, уже независимо от отдельных сочетаний. Слово приобретает общее значение. Разумеется не исключена возможность будущих семантических трансформаций этого же слова, но в современном русском литературном языке существительное позор в значении «бесчестье» существует совершенно объективно и совершенно независимо от тех или иных контекстов. Не исключена возможность, что в будущем определенные контексты и дальше будут воздействовать на