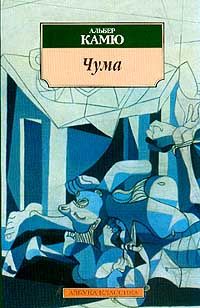Однако эта «языческая» ценность, перед которой прежде все прочие меркли и казались не важными, теперь теряет былое исключительное положение, становится если не подчиненной, то зависимой. Тогда «счастье» и «долг» враждовали, между ними пролегала пропасть. В «Чуме» Камю перебрасывает над ней мостик, запрещая своим героям временами овладевающий кое-кем из них искус махнуть на все рукой и, подобно «постороннему», предаться уединенным «пиршествам плоти» посреди свирепствующей вокруг чумы. Возвращаясь после купания назад в город, Риё думал, что «болезнь на минуту забыла о них, что это было хорошо, но что теперь надо было снова браться за дело» (1,1427). «Смерть других» ничуть не трогала «постороннего», выбравшись из стен бедствующего города, он бы по доброй воле обратно, пожалуй, не пошел. И эта разница очевидно свидетельствует о возмужании мысли самого Камю и еще стольких его единомышленников в годы Сопротивления. В пору испытаний «миф спасения» до конца обнаружил, чем он был с того самого дня, как возник, – утопией, к тому же чреватой безнравственностью. И был подвергнут честному пересмотру. В ходе последнего от того, что некогда служило ключевой установкой всего писательского раздумья, сохранился только один момент, включенный, однако, в иную, более зрелую «иерархию ценностей» на правах уточняющей грани, поворота, оттенка. Самая скромность двух страничек, отведенных этому уточнению в «Чуме», – показатель смены угла зрения Камю на жизнь и призвание в ней личности.
Логика этого перелома, впрочем, и прямо раскрывается в истории заезжего журналиста Рамбера – этой почти автобиографической исповеди самого Камю, перенесенной на страницы «Чумы». Парижский репортер, за плечами у которого немало пережитого и передуманного, включая Гражданскую войну в Испании, Рамбер застрял в чумном городе совершенно случайно. Ничто не связывает его с Ораном, зато где-то далеко за морем его ждет любимая женщина, покой, нежность. Выбраться, во что бы то ни стало выбраться из этих чужих стен, из этой ловушки, подстроенной судьбой, – Рамбер одержим навязчивой мыслью бежать, невзирая на карантинные запреты. Те, кто их ввел, прибегли, как ему поначалу кажется, к «языку разума», отчужденному от потребностей отдельных личностей, – тому самому не знающему «человечности» языку – поскольку для него существуют правила без частных случаев, – на котором некогда изъяснялись судьи «постороннего» (I, 1287). Риё, тоже разлученный с женой, Тару, не менее посторонний в городе, далеки от нетерпимого осуждения этого человека отнюдь не робкого десятка. Ведь потребность в счастье, по мнению доктора, не имеет себе более сильных соперников среди прочих наших запросов, и «нет на свете таких вещей, ради которых стоило бы отвернуться от того, что любишь. И тем не менее я отворачиваюсь, сам не знаю почему» (I, 1387).
Высказывание это иногда озадачивает и даже служит поводом для того, чтобы упрекнуть Камю в двусмысленности, чуть ли не в снисходительном поощрении шкурничества: каждый, мол, волен поступать, как ему вздумается, а значит, так ли уж далеко Камю ушел в «Чуме» от «Постороннего»? Однако, коль скоро приведенные слова все же следует брать не вырванными из книги, а как звено во всей цепи ее раздумья, ясно, что писатель-то вкладывает их с совсем иными намерениями в уста Риё, который сам твердо убежден, что в пору бед пользующаяся «языком разума» «абстракция оказывается сильнее счастья и тогда необходимо принимать в расчет только ее» (I, 1291). Камю важно оттенить тот факт, что колебания перед трудным, смертельно опасным выбором не разрешаются с помощью сугубо умозрительных расчетов, что жизнь не шахматная игра и ответственный шаг надежен тогда, когда это выстраданное, из глубин сердца идущее «не могу иначе», и что поэтому «перстуказующий» со стороны здесь не очень-то годится. Доктор избегает навязывать свое собственное решение окружающим и тем выказывает им доверие, предоставляя, в частности, Рамберу самому – без подталкиваний, зачастую вызывающих лишь обратное действие, – найти свое место в рядах врачевателей.
И не совершает ошибки: как раз Рамбер и дает в конце концов однозначное решение задачи, столь «уклончиво», с терпимостью к обоим возможным выходам очерченной его старшим товарищем. Когда почти все препятствия позади, когда все подготовлено и пора осуществить столь желанный побег, журналист вдруг предпочитает остаться. Что это, случайная прихоть? Мимолетный порыв жертвенности? Нет, исподволь зревшее убеждение, пренебрегши которым, пожалуй, потеряешь и личное-то счастье. Совесть замучает. Еще не так давно «посторонний», да и просматриваемый за ним писатель Камю думали о жизни и смерти так, будто для каждого дело это сугубо частное, никого, кроме них самих, не касающееся. Теперь непричастный осознает свою полную причастность. «Стыдно быть счастливым в одиночку… Я всегда считал, что я посторонний в этом городе и что мне нечего делать вместе с вами. Но теперь, после того как я увидел то, что увидел, я знаю, что я здешний, хочу я того или нет. Эта история касается равно нас всех» (I, 1387).
Счастье невозможно, когда все вокруг несчастны. Человек в ответе за происходящее рядом, даже если непосредственно он этим не задет. И знание это менее всего умозрительно, оно укоренено в самых недрах души, подчас его трудно выразить словами, но это – властный зов совести. Сопротивление побудило Камю внести в свой нравственно-философский свод прежде не присутствовавшее там братство с другими в беде и в защите от нее. Совместная борьба во имя общих целей позволила снять дилемму «счастье одного – долг перед другими», ложную в той мере, в какой она возводилась в ранг вечной «истины». Сквозь помехи книжной метафизики, которая вобрала в себя вполне житейский эгоизм нравов, исторически преходящих, внушенных кипением «войны всех против всех», Камю пробивался к гуманистической вере тех, кто не мыслит себя одиночкой на пустой земле, кто принимает на себя ответственность. К вере, которую исповедовали летчики Сент-Экзюпери и о которой в те мрачные для Франции дни гитлеровского нашествия сказал Поль Элюар: «Мы всегда любили друг друга, и потому что мы любим друг друга, мы хотим освободить других от холода одиночества» («Семь стихотворений о любви на войне»)[56].
Прорыв к правде, до сих пор погребенной где-то под спудом наносного, мнимого, скорее привычного, чем истинного, ждет в «Чуме» не одного Рамбера. Для священника Панлу, статистика Грана, следователя Отона, самого Бернара Риё, как и для прочих обитателей города – для всех и всякий раз по-своему, но рано или поздно настает час прозрения, когда спадают с жизни приветливые утешительные покровы, оголяется ее суть, когда чума освобождает ум и душу очевидцев ее бесчинств от удобных заблуждений. Агония ребенка на глазах у Панлу, метания Грана в лихорадке и последняя фраза его злополучной рукописи, обращенная к жене, Отон в карантинном лагере, Риё у постели Тару и затем на улицах праздничного Орана – эти ключевые эпизоды книги, своего рода философско-нравственные кульминации отдельных судеб, составляют узлы аналитического развертывания хроники, не менее важного для повествования, чем самый ход эпидемии. Среди героев «Чумы» разве что один Тару не переживает такого момента, поскольку его воззрения окончательно сложились раньше, за пределами описываемых событий, и он, по его словам, уже «знает о жизни все».
Впрочем, и Тару на свой лад включается в эту вереницу этических открытий, когда исповедуется доктору, рассказывая о своем прошлом. Создается впечатление, что каждому из участников оранской трагедии «поручено» донести до нас свою часть распределенного между ними груза, в целом образующего жизненную философию писателя Альбера Камю. Когда же кто-нибудь выполняет до срока свое «поручение», рассказчик попросту о нем «забывает», что и произошло с Рамбером, который во второй половине книги, после своего решения остаться, выглядит лишь тенью, мелькающей иногда на заднике сцены.
Возникающая отсюда «заданность», психологическая однолинейность и суховатая жесткость в обрисовке лиц, да и в построении всей хроники, которая в западной прозе XX века вообще выглядит исключением, довольно неожиданным случаем редкостной простоты, вызывала немало нареканий по адресу Камю-художника. Не раз упрекали его в том, что «Чума» – книга холодная, даже бедная, что отдельные скудные лирические проблески подавлены в ней бесстрастием хрониста, а драматическая подача событий оттеснена иллюстративной демонстрацией, что портретные зарисовки смахивают здесь на перечень примет разыскиваемых лиц, биографии – на сообщение анкетных данных, и героям недостает живой рельефности, духовной плотности, в том, наконец, что книга эта мало занимательна, скучновата. Упреки, справедливые только на первый, поверхностный взгляд.