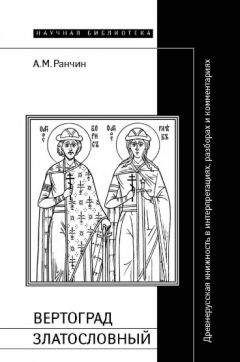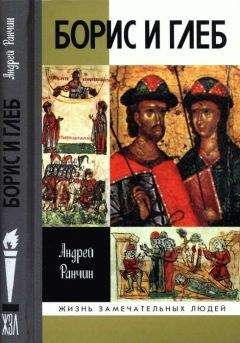Другой случай — Повесть о Петре и Февронии Ермолая-Еразма, произведение, функционировавшее как агиобиография (включавшееся в состав сборников житийного состава) и содержащее ряд эпизодов, типичных для агиографии, но построенное на сюжетных мотивах змееборчества и брака князя с мудрой девой, инородных для жития и имеющих аналоги в фольклоре. Традиционное в отечественной медиевистике мнение заключается в том, что Повесть о Петре и Февронии — повествование о любви сказочно-новеллистического характера, лишь формально адаптированное к требованиям, предъявляемым к агиобиографии[6]. Однако высказывалось и другое, противоположное мнение: произведение Ермолая-Еразма — текст с религиозной семантикой, имеющий символическую природу: это символическая реализация мотивов брака правителя-змееборца и Премудрости [Плюханова 1995], притча об одолении грехов, благочестивом супружестве, смирении и отказе от мирских страстей [Демкова 1996].
Герменевтические проблемы, возникающие в случае анализа уникальных, единичных текстов, по-видимому, не могут быть однозначно разрешены в принципе. Любое понимание, приближение к таким текстам остается не просто относительным, но рискованным, и может претендовать лишь на права гипотезы. Интерпретация же текстов, вписывающихся в определенную традицию, может в принципе претендовать на бесспорность, хотя и здесь истолкование конкретных текстов далеко не всегда оказывается неопровержимым и несомненным.
Произведение — это не только письменный текст как таковой, но и его прочтения, обязательные для современников автора. Для адекватного истолкования текста необходимо соблюдение ряда герменевтических правил.
Первое — это презумпция религиозной семантики интерпретируемого текста: древнерусская словесность и шире, litteratura Slavia Orthodoxa, религиозна по своей сущности; письменный язык (славянская азбука) создан по благодати Божией для перевода сакральных текстов, означаемое и означающее связаны в нем непроизвольно, неконвенционально[7]. Соответственно, интерпретация древнерусского памятника как произведения, воплощающего религиозные мотивы, всегда предпочтительна в сравнении со стремлением обнаружить в нем, например, государственно-политические идеи (Слово о Законе и Благодати) или любовную тему (Повесть о Петре и Февронии). Обратное допустимо лишь тогда, когда произведение никак не вписывается в круг церковной книжности и когда иные, не религиозные мотивы представлены в нем в эксплицитной форме.
Показательный и убедительный пример анализа древнерусского памятника в религиозном контексте — интерпретация Повести временных лет И. Н. Данилевским, открывающая библейские семантические архетипы даже у тех летописных сказаний, которые принято рассматривать как письменную фиксацию фольклорных произведений, исторических преданий[8].
Однако презумпция религиозной семантики древнерусской словесности автоматически не доказывает правильность того или иного конкретного прочтения определенного текста как хранителя символических религиозных смыслов. Истолкования Повести о Петре и Февронии, предложенные М. Б. Плюхановой и Н. С. Демковой, остаются (и, по-видимому, останутся) замечательными гипотезами, а не бесспорной истиной. Традиционная же характеристика победы князя Петра над змеем и женитьбы на мудрой деве Февронии как фольклорных мотивов представляется некорректной. Даже если Ермолай-Еразм воспользовался сюжетом волшебной сказки или опирался на предание о болезни и браке рязанского князя, в новом контексте, в повествовании о святых супругах эти сюжетные элементы приобрели иной, христианский смысл, оказались подчинены поэтике агиобиографии.
Вообще, при интерпретации древнерусских памятников весьма актуально требование о разграничении генезиса и функции[9], которое можно назвать «вторым герменевтическим правилом». Тот или иной мотив, образ, эпизод, сюжет должен определяться не по своему происхождению, а по функции в тексте. К примеру, определение сказаний (прежде всего — этиологического содержания) в начальной части Повести временных лет как исторических преданий, вероятно, корректно генетически, но не учитывает семантики этих фрагментов в новом контексте. Так, повествование о Кие и его братьях, вероятно, восходящее к фольклорному преданию[10], в летописи встроено в целостный ряд событий, в «текст о происхождении власти на Руси». Это ряд фрагментов, содержащих тернарные структуры: сказания о трех правителях, разделяющих между собой некую территорию. Таковы, прежде всего, рассказы о разделении земли между сыновьями Ноя Симом, Хамом и Иафетом, о княжении Кия, Щека и Хорива и о призвании варягов Рюрика, Трувора и Синеуса. Представление о трех братьях-прародителях и основателях имеет глубинные мифологические истоки. В Повести временных лет сказание о Кие и его братьях включено в общий текстовой пласт с открывающим ее рассказом о расселении народов-потомков трех сыновей Ноя. История в осмыслении средневековых книжников представала повторением и «обновлением» неких архетипических событий [Лотман 1993]. Сим, Хам и Иафет, делящие землю, — прообраз триады русских правителей, символизирующих автохтонный исток власти (Кий и его братья), и триады варягов, персонифицирующих «внешнюю», иноземного происхождения власть, устанавливающую порядок[11].
Другой пример — летописное сказание о княгине Ольге, включенное в Повесть временных лет под 6463 (955) годом. Согласно распространенному мнению, высказанному еще А. А. Шахматовым, эта летописная статья имеет компилятивный характер и в ней будто бы соединены известия двух различных источников: церковной легенды о крещении Ольги и фольклорного текста — предания о сватовстве императора к русской княгине и о его посрамлении Ольгой [Шахматов 1908. С. 110–118, 468–469; ср. Шахматов 2001. С. 26–90, 391]. Это мнение было оспорено С. Ф. Платоновым, указавшим на целостный характер летописной статьи о посещении русской княгиней Царьграда: «Цель автора — наглядно противопоставить отношение Ольги к патриарху ее же отношению к царю и извлечь из мудрой политики вещей княгини поучительный пример и образец для всей Руси. <…> Летописец не упускает случая лишний раз отметить, чего именно искала Ольга в Царьграде, — сопоставлением ее с царицею Эфиопскою. Та желала узнать мудрость царя Соломона, мудрость „человеческую“; она же искала Божией премудрости. Не „Соломон“ византийский привлекал ее; в своих исканиях она стремилась в Царьград не к царю, а к самому истинному Богу, ничего не ища у царя» [Платонов 1919. С. 286–287].
Однако в повествовании о сватовстве императора к Ольге представлен характерный для фольклора мотив «сватовство — хитроумный отказ», прежде встречавшийся также в сказании о мести Ольги древлянам под 6453 (945) годом[12]. В рассказе же о крещении Ольги патриархом мотивов, присущих фольклорным произведениям, нет. Это отличие может действительно указывать на фольклорный генезис сюжета об Ольге и императоре. Формально А. А. Шахматов, вероятно, прав. Но в контексте Повести временных лет этот сюжет и сюжет о крещении княгини патриархом составляют единое целое, и потому по существу прав все-таки С. Ф. Платонов.
Еще одно естественное правило: предлагаемая интерпретация должна основываться на данных текста как целого, а не его отдельного фрагмента. В отношении произведений Нового времени это требование не является обязательным, так как они часто построены из сравнительно самостоятельных, семантически разнородных частей. Но памятники древнерусской словесности — семантически целостные тексты, а потому интерпретация должна учитывать все элементы их структуры. С этой точки зрения, истолкование Слова о Законе и Благодати С. Я. Сендеровичем более убедительно, чем иные интерпретации, поскольку в полной мере учитывает функцию текста — произведения церковного красноречия и встраивает фрагмент, посвященный Руси и князю Владимиру, в единый богословско-историософский ряд, в котором воплощен мотив благословения младшей линии: Исаак — младший сын Авраама, христианство — как бы младшая ветвь иудаизма, христианство на Руси — младшая в сравнении с византийским христианством отрасль христианской веры.
Эта интерпретация в принципе не исключает антииудаистской и антивизантийской направленности Слова о Законе и Благодати, однако такая направленность произведения Илариона недоказуема.
Показательный пример зависимости истолкования от структуры текста как целого — интерпретации Сказания о Борисе и Глебе. В отечественной медиевистике советского времени господствовала идея об утверждении принципа подчинения старших князей младшим как о лейтмотиве Борисоглебских памятников[13]. Сторонники противоположной точки зрения интерпретировали Борисоглебский культ и тексты (в том числе Сказание о Борисе и Глебе) как воплощение мотива о добровольной жертве в подражание Христу[14]. Непротивление старшему брату Святополку действительно присуще и Борису, и Глебу. Однако текст открывается цитатой из Псалтири (Пс. 111:2): «Родь правыихъ бл[а]ословить ся рече прор[о]къ и семя ихъ въ бл(а)гословлении будеть»[15]. Текст обнаруживает соответствия с евангельским повествованием о распятии Христа. Ночное уединенное моление Бориса[16] соотнесено с молением Христа о чаше; слова Бориса убийцам, выражающие приятие горестного и вместе с тем радостного жребия, напоминают о Христе, приемлющем предуготованное; Борис молится перед иконой Христа, прося его сподобить такой же смерти. Тело умершего Христа пронзено копьем (Ин. 19: 34), убийцы копьями пронзают тело Бориса. Борис уподобляет себя овну: «въмениша мя яко овьна на сънедь» [Успенский сборник 1971. С. 49, л. 126]. Глеба убивает ножом, как агнца, собственный повар Горясер; эти именования Бориса и Глеба уподобляют их Христу — Агнцу Небесному. Роль повара-предателя похожа на роль отступника Иуды. Глеб, обращающий слова моления к убийцам, именует себя молодой лозой — а ведь виноградной лозой называет себя Иисус Христос (Ин. 15:1–2).