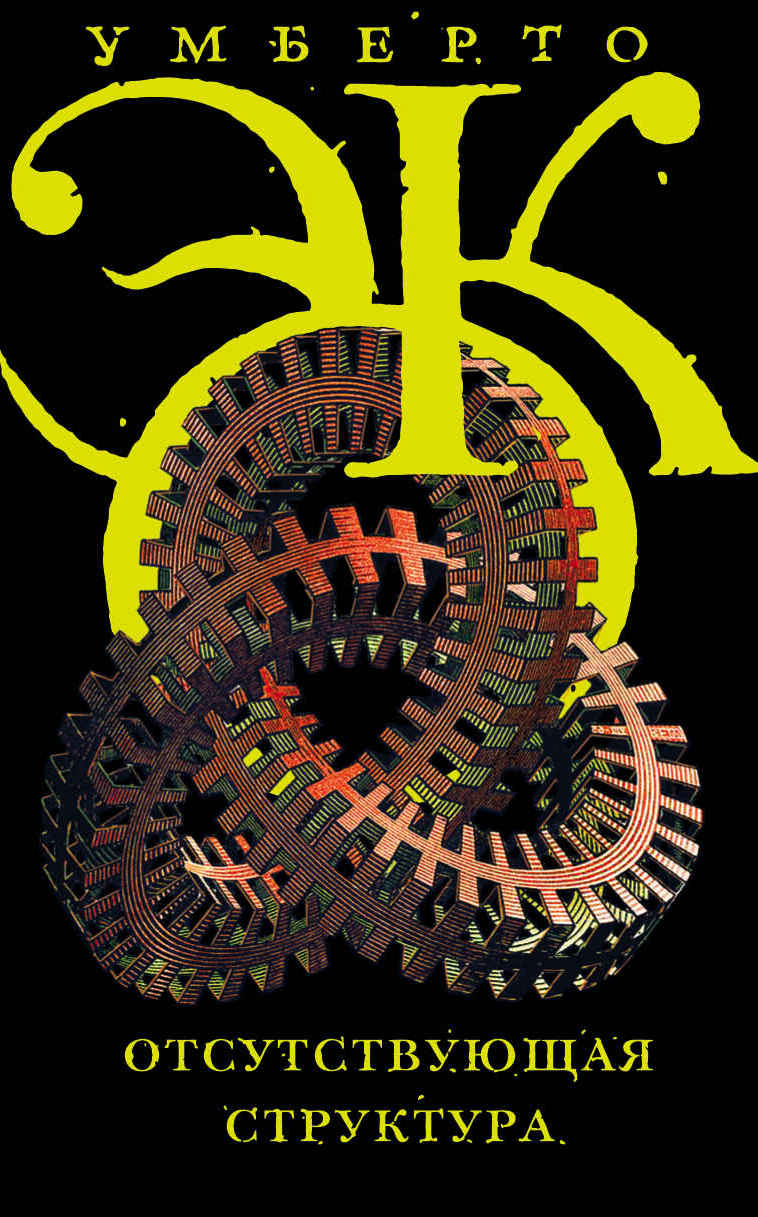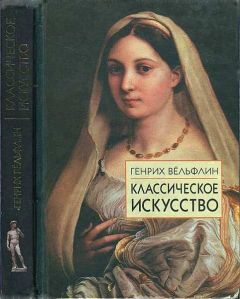лингвистики.
И если семиология самостоятельная дисциплина, то это потому, что ей удается подвести единое основание под различные формы коммуникации, разрабатывая собственный категориальный аппарат, в который входят такие понятия, как «код», «сообщение», включающие, но не исчерпывающиеся тем, что у лингвистов называется языком и речью. Мы уже убедились в том, что семиология действительно пользуется плодами лингвистики, которая является наиболее тщательно разработанным ее ответвлением. Но, осуществляя семиотические изыскания, никоим образом не следует упускать из виду, что далеко не все коммуникативные феномены можно объяснить с помощью лингвистических категорий.
Следовательно, попытка семиологической интерпретации визуальной коммуникации представляет определенный интерес и в том, что дает возможность семиологии доказать свою независимость от лингвистики. Поскольку существуют знаковые феномены, менее определенные, чем собственно феномены визуальной коммуникации (живопись, скульптура, рисунок, визуальная сигнализация, кино или фотография), семиология визуальной коммуникации могла бы послужить трамплином при исследовании таких культурных сфер, как, например, архитектура и дизайн, в которых визуальные сообщения одновременно являются предметами пользования).
I. 2. Если мы примем во внимание триадическую классификацию знаков, предложенную Пирсом (см. рис. 5), мы убедимся в том, что каждому ее подразделению соответствует определенное явление визуальной коммуникации.
Этот достаточно случайный перечень свидетельствует, что возможны разные комбинации знаков, предусмотренные самим Пирсом, например, иконический синсигнум, иконический легисигнум и т. д.
Для нашего исследования представляет особый интерес классификация знака по его отношению к объекту, и в этой связи никто не отрицает, что визуальные символы не входят в состав кодифицированного «языка». Зато вопрос об индексальных и иконических знаках представляется более спорным.
I. 3. Пирс отмечал, что индексальный знак – это такой знак, который привлекает внимание к означаемому им объекту каким-то безотчетным образом. Разумеется, когда я вижу мокрое пятно, мне сразу приходит в голову, что пролилась вода; и точно так, увидев стрелку-указатель, я следую в указанном направлении, конечно, при том условии, что меня это сообщение интересует, но в любом случае я сразу усваиваю смысл сообщаемого. Между тем всякий визуальный индексальный знак мне что-то внушает на базе соглашения или имеющегося на этот счет опыта. По следам на земле я могу понять, что здесь пробежал зверь, только в том случае, если меня научили в этом разбираться, соотносить определенный след с определенным зверем. Если увиденные мной следы я никогда прежде не видел и никто мне не говорил, что это такое, я не опознаю индексальный знак как таковой, сочтя его каким-то природным явлением.
Итак, с известной долей ответственности можно утверждать, что все визуальные явления, относящиеся к индексальным знакам, можно рассматривать как конвенциональные знаки. Внезапный яркий свет, который заставляет меня зажмуриться, вынуждает меня действовать безотчетно, и никакого семиозиса здесь нет, потому что речь идет о простом физиологическом стимуле, – точно так я бы зажмурил глаза, доведись мне увидеть страшного зверя. Но когда по разливающемуся по небу свету зари я узнаю о восходе солнца, то это потому, что меня научили распознавать этот знак. Иначе и сложнее обстоит дело с иконическими знаками.
II. 1. Пирс определял иконический знак как знак, обладающий известным натуральным сходством с объектом, к которому он относится [113]. В каком смысле он понимает «натуральное сходство» между портретом и человеком, изображенным на нем, можно догадаться; что касается диаграмм, то он утверждал: они являются иконическими знаками, ибо воспроизводят форму отношений, существующих в действительности.
Судьба определения иконического знака сложилась удачно: его развил и распропагандировал Моррис потому, что оно ему показалось наиболее удачным способом семантически определить образ. Для Морриса иконическим является такой знак, который песет в себе некоторые свойства представляемого объекта или, точнее, «обладает свойствами собственных денотатов» [114].
II. 2. И вот тут-то здравый смысл, которому это определение вроде бы соответствует, нас подводит, потому что при более пристальном взгляде на вещи тот же самый здравый смысл нам подскажет, что это определение по сути чистая тавтология. Что стоит за утверждением, что портрет королевы Елизаветы кисти Аннигони обладает теми же свойствами, что и сама королева Елизавета? Здравый смысл говорит: ведь на портрете та же самая форма глаз, носа, рта, тот же цвет кожи, волос, такая же фигура… Но что такое «та же самая форма носа»? У носа три измерения, а у изображения два носа. На носу, если к нему приглядеться, можно различить поры, небольшие бугорки, так что, в отличие от носа на портрете, его поверхность не кажется ровной. Кроме того, у носа есть два отверстия, ноздри, в то время как у носа на портрете есть два черных пятна, а не отверстия.
Если мы снова призовем на помощь здравый смысл, то его ответ будет тот же, что и у моррисовской семиотики: «портрет человека иконичен только до известной степени, ведь покрытый красками холст совсем не то, что кожа, в отличие от изображенного на портрете человека портрет не наделен способностью говорить и двигаться. Кинематографическое изображение несколько более иконично, но тоже не вполне». Разумеется, такое рассуждение, выдержанное до конца, приведет Морриса, а равно и здравый смысл, не куда-нибудь, а к упразднению самого понятия иконичности: «Абсолютный иконический знак не может быть ничем иным, как собственным денотатом». Это то же самое, что сказать: подлинным и исчерпывающе иконическим знаком королевы Елизаветы будет не портрет Аннигони, а сама королева Елизавета или ее научно-фантастический «двойник». Моррис и сам на последующих страницах старается занять более гибкую позицию, утверждая: «Не будем забывать о том, что иконический знак только в некоторых своих аспектах подобен тому, что он означает. И стало быть, иконичность – вопрос степени» [115]. И когда, продолжая в том же духе и говоря о невизуальных иконических знаках, Моррис ссылается на ономатопею, становится ясно, что разговор о степенях, размывая понятие иконичности, делает его слишком неопределенным, потому что иконичность «ку-ка-ре-ку» [116] по отношению к крику петуха очень слабо выражена, и, кстати говоря, для французов соответствующий знак будет «ко-ке-ри-ко».
Весь вопрос в том, что мы понимаем под «некоторыми аспектами». Иконический знак сходен с означаемой вещью только в некоторых своих аспектах. Вот ответ, который может удовлетворить здравый смысл, но не семиологию.
II. 3. Рассмотрим один из примеров рекламы. В протянутой руке – стакан с пенящимся, переливающимся через край, только что налитым в него пивом. На запотевшем стекле капельки влаги, рождающие непосредственное (как это свойственно ипдексалъпым знакам) ощущение холода.
Трудно не согласиться с тем, что эта визуальная синтагма – иконический знак. И мы прекрасно