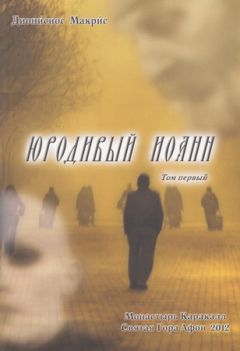До времен Цезаря, Августа, св. Константина, Франциска I, Людовика XIV, Вильгельма Оранского, Питта, Фридриха II, Перикла, до Кира, или Дария Гистаспа и т. д. все прогрессисты правы, все охранители не правы. Прогрессисты тогда ведут нацию и государство к цветению и росту. Охранители тогда ошибочно не верят ни в рост, ни в цветение или не любят этого цветения и роста, не понимают их.
После цветущей и сложной эпохи, как только начинается процесс вторичного упрощения и смешения контуров, т. е. большее однообразие областей, смешение сословий, подвижность и шаткость властей, принижение религии, сходство воспитания и т. п., так, в смысле государственного блага, все прогрессисты становятся не правы в теории, хотя и торжествуют на практике. Они не правы в теории, ибо, думая исправлять, они разрушают; они торжествуют на практике; ибо идут легко по течению, стремятся по наклонной плоскости. Они торжествуют, они имеют громадный успех.
Все охранители и друзья реакции правы, напротив, в теории, когда начнется процесс вторичного упростительного смешения, ибо они хотят лечить и укреплять организм. Не их вина, что нация не умеет уже выносить дисциплину отвлеченной государственной идеи, скрытой в недрах ее!
Они все-таки делают свой долг и, сколько могут, замедляют разложение, возвращая нацию, иногда и насильственно, к культу создавшей ее государственности.
До дня цветения лучше быть парусом или паровым котлом; после этого невозвратного дня достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору, стремящихся нередко наивно, добросовестно, при кликах торжества и с распущенными знаменами надежд, до тех пор, пока какой-нибудь Седан, Херонея, Арбеллы, какой-нибудь Аларих, Магомет II или зажженный петролеем и взорванный динамитом Париж не откроют им глаза на настоящее положение дел»[70].
Положение аргумента — развернутое оценочное суждение (два последние абзаца) занимает промежуточное место, так как к нему в дальнейшем будут сводиться конкретные факты. Положение через цепочку редукций приводится к общему месту, которое сформулировано в начале цитаты и в опущенных перифразах. Эта аргументация особенно интересна тем, что автор через топы «действие/время» и «действие/место» (т. е. понятие уместности) сводит противостоящие определения прогрессиста и реакционера, правота каждого из которых определяется исторической фазой круговращения времен.
Аргументацию прехождения характеризует целый ряд особенностей, которые делают ее опасной для ритора.
Первая — неизбежное снижение ценности предмета обсуждения. Когда утверждают, что все преходяще, что новое имеет такую же ценность, что и прежнее, — а это неизбежно, даже если, как это делает К.Н. Леонтьев, брать крупные исторические отрезки и выстраивать дополнительные звенья редукций, — решение утрачивает смысл и привлекательность.
Вторая — столь же неизбежные искусственность и уязвимость формулировки топа. Сравнение истории народов с жизнью человека — младенчеством, юностью, зрелостью, старостью — «общее место» в худшем смысле слова, а попросту — банальность; вычисления среднего возраста цивилизаций, любимые упражнения историософов, при всей своей наукообразности, во-первых, крайне субъективны, а во-вторых, снижают пафос, напряжение речи: человеку европейской (или христианской) культуры, который видит себя образом Божием, просто не интересно быть элементом всеобщего коловращения.
Аргумент к прогрессуОн также основан на топе «предыдущее/последующее», в котором приоритет отдается последующему. Согласно идее прогресса история предстает как поступательное развитие, смысл которого совершенствование личности через совершенствование образа жизни.
При сравнительной оценке фактов последующие рассматриваются как более значимые, чем предшествующие; либо данные сопоставляются с моделью (характеристикой образа жизни или идеального состояния личности) и в таком случае оцениваются как представляющие это состояние в большей или меньшей степени. Это бывает нужно в тех случаях, когда последующее состояние предмета, например, общества, на деле оказывается худшим, чем предшествующее, и приходится говорить об «относительном прогрессе», или более «прогрессивном состоянии», или так называемой «реакции». В таком случае менее благоприятное последующее оценивается как реальное предыдущее: «Война — современное варварство».
«Политик. Если вы мне позволите объяснить мой взгляд на предмет, то само собою будет видно, с кем и в чем я согласен. Мой взгляд есть только логический вывод из несомненной действительности и фактов истории. Разве можно спорить против исторического значения войны как главного, если не единственного средства, которым создавалось и упрочивалось государство? Укажите мне хоть одно государство, которое было бы создано и укреплено помимо войны.
Дама. А Северная Америка?
Политик. Спасибо за отличный пример. Я ведь говорю о создании государства. Конечно, Северная Америка как европейская колония была создана, подобно всем колониям, не войною, а мореплаванием, но, как только эта колония захотела быть государством, так ей пришлось долголетнею войною добывать свою политическую независимость.
Князь. Из того, что государство создавалось посредством войны, что, конечно, неоспоримо, вы, по-видимому, заключаете о важности войны, а по-моему, из этого можно заключить о неважности государства — разумеется, для людей, отказавшихся от поклонения насилию.
Политик. Сейчас и поклонение насилию! Зачем это? Вы лучше попробуйте-ка устроить прочное человеческое общежитие вне принудительных государственных форм или хоть сами на деле откажитесь от всего, что на них держится, — тогда и говорите о неважности государства. Ну, а до тех пор государство и все то, чем мы с вами ему обязаны, остается огромным фактом, а ваши нападения на него остаются маленькими словами. — Итак, повторяю: великое историческое значение войны как главного условия при создании государства — вне вопроса; но я спрашиваю: самое это великое дело созидания государства разве не должно считаться завершенным в существенных чертах? А подробности, конечно, могут быть улажены и без такого героического средства, как война. В древности и в средние века, когда мир европейской культуры был лишь островом среди океана более или менее диких племен, военный строй требовался прямо самосохранением. Было нужно всегда быть наготове к отражению каких-нибудь орд, устремлявшихся неведомо откуда, чтобы потоптать слабые цивилизации. Но теперь островами можно назвать только неевропейские элементы, а европейская культура стала океаном, размывающим эти острова. Наши ученые, авантюристы и миссионеры весь земной шар обшарили и ничего грозящего серьезною опасностью для культурного мира не нашли. Дикари весьма успешно истребляются или вымирают, а воинственные варвары, как турки или японцы, цивилизуются и теряют свою воинственность. Между тем объединение европейских наций в культурной жизни… так усилилось, что война между этими нациями прямо бы имела характер междуусобия, во всех отношениях непростительного при возможности мирного улаживания международных споров. Решать их войною в настоящее время было бы также фантастично, как приехать из Петербурга в Марсель на парусном судне или в тарантасе на тройке, хотя я совершенно согласен, что «белеет парус одинокий» и «вот мчится тройка удалая» гораздо поэтичнее, чем свистки парохода или крики «en voiture, messieurs».
Точно так же я готов признать эстетическое преимущество и «стальной щетины», и «колыхаясь и сверкая движутся полки» перед портфелями дипломатов и суконными столами мирных конгрессов, но серьезная постановка такого жизненного вопроса, очевидно, не должна иметь ничего общего с эстетической оценкой той красоты, которая принадлежит ведь не реальной войне, — это, уверяю вас, вовсе не красиво, — а лишь ее отражению в фантазии поэта или художника; и раз все начинают понимать, что война при всей своей интересности для поэзии и живописи — они ведь могут и прошедшими войнами довольствоваться — вовсе теперь не нужна, потому что невыгодна, так как это слишком дорогое, да и рискованное средство для таких целей, которые могут быть достигнуты дешевле и вернее иным путем, — то, значит, военный период истории кончился. Говорю, разумеется en grand. О каком-нибудь немедленном разоружении не может быть и речи, но я твердо уверен, что ни мы, ни наши дети больших войн — настоящих европейских войн — не увидим, а внуки наши и о маленьких войнах — где-нибудь в Азии или Африке — также будут знать только из исторических сочинений.