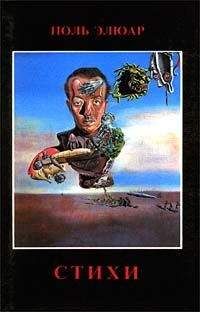Миросозерцание Виньи, уязвленного засильем вокруг мелкотравчатой торгашеской обывательщины, когда недюжинная личность – пророк, воин или художник – обречена на прозябание, отщепенство, гибель, неизбывно трагично. «Спокойная безнадежность, без судорожного гнева и укоров небесам, – записывал он в дневнике, – это и есть сама мудрость». Хмурое безмолвие божества над головой, не внемлющего мольбам и недоуменным вопрошаниям людским; деляческая суета машинной цивилизации, вторгающейся в самые дотоле тихие уголки природы; жестокосердие и толпы и властителей; предательское коварство самых близких – вселенная, по Виньи, неблагосклонна к нам, гнетуще безучастна, а порой и прямо враждебна. Залог достоинства личности видится ему, однако, в том, чтобы не сникнуть под удара ми судьбы, но распрямиться и горделиво встретить разлитое повсюду злосчастье. И не просто выстоять, а исполнить до конца дело своей жизни, свой долг на земле. Для самого Виньи он – в духовном служении, призванном выпестовать, вопреки всем житейским невзгодам, «жемчужину мысли» и принести ее в дар поколениям, сегодняшним и грядущим. Трагизм здесь – не сломленность, а суровое, без обольщений благими надеждами, сопротивленчество року.
Ответственная перед собой и другими стоическая выдержка – ключевая нравственная ценность Виньи – передается и его слогу, всегда собранному, тщательно взвешенному. Прозрачность неспешно выношенного замысла и чистота отделки; слегка замедленное, внятное до малейших смысловых оттенков, исполненное серьезности письмо; стройное равновесие александрийского двенадцатисложника, почти исключительно им употребляемого; четкая разбивка чреды кованых строк на крепко сбитые строфы – мастерство Виньи, особенно совершенное в самой прославленной из его малых лирических эпопей, «Доме пастуха», вполне под стать исповедуемой им морали самообладания:
Альфред де Виньи. Автопортрет
Если сердце твое от обыденных тягот
Приникает к земле, как подбитый орел,
И бессильные крылья взметнутся и лягут,
Потому что их груз непомерно тяжел,
Если кровь неуемно из раны сочится,
Если вещей звездою любовь не лучится,
Что тебе озаряла невидимый дол;
Если дух твой устал от неволи галерной,
От прогорклого хлеба, ядра и цепей
И весло уронил, и в печали безмерной
Оглядел колыханье зеркальных зыбей,
………………………………………………
Прочь из города, вырвись на лоно природы,
Самый прах омерзительный с ног отряхни:
По-иному увидишь ты мир несвободы,
Современное рабство, безликие дни.
Ждут леса и поля – хорошо на просторе,
Так вкруг острова плещет пустынное море, –
Отправляйся в поля, меж цветов отдохни.
Ждет Природа в суровом и гордом молчанье,
И по травам туман пробирается в сад,
И вздыхает земля, и примнится в тумане,
Что вечерние лилии небу кадят;
И стволы, как шеренги, сомкнулись безмолвно,
И померкла гора, и на бледные волны
Тень от ивы легла, и тускнеет закат.
Дружелюбные сумерки дремлют в долине, –
В изумрудной траве, на лугах золотых,
В тростниках над ручьем и в таинственно-синей
Чаще леса, который устало затих.
Ускользают, колышутся в гроздьях и листьях,
Серый плащ расстилают на отмелях мглистых,
Открывают темницы фиалок ночных.
И безутешный в своих сетованиях Ламартин, и сохраняющий трагическую сдержанность Виньи каждый по-своему подвержены приступам «мировой скорби» – этой «болезни сыновей века», как ее окрестили во Франции. Но если оба они недуг тогдашних умов претерпевали возвышенно, как печать собственной исключительности и своего рода почесть, то в соседстве с ними, под их благородной сенью обретались иной раз и вполне заурядные жертвы того же поветрия. Уже одним своим обликом обычных смертных они житейски «заземляли» лирику, потихоньку приучая ее к самой что ни на есть неказистой правде.
Заслуга такого внедрения обыденной прозы в романтическую поэзию Франции принадлежит Шарлю-Огюстену Сент-Бёву (1804–1869). В 1829 г., еще до того как стать светилом первой величины на небосводе критической эссеистики, он сочинил – не без оглядки на свою молодость провинциала-разночинца в Париже – рукопись от имени не коего мнимого студента Жозефа Делорма, который, как объяснялось в предварявшем книгу жизнеописании, прозябал на столичной окраине и рано умер в безвестности. Жало бы этого бедняги на свой жребий, снедающая его тоска по другой, наполненной жизни и какое-то томительное вдохновение, чахотка вкупе с еще более неизлечимым унынием – все это предстало у Сент-Бёва без байронического вызова, точно в беседе с самим собой на страницах дневника. А вместе с неброскостью записей-стихов о досаждающих Делорму не задачах, сердечных бедах и бессильных упованиях туда проникают приметы городской улицы, деревенского захолустья или домашнего быта – вся скудная обстановка повседневья, будничная даже в праздники. Мельчайшие подробности ее переданы достоверно, без нажима, зато с изысканной проработкой оттенков в игре светотени и цветовых переливах:
Мечтой к заветному привороженный мигу,
Смотрю, держа в руках наскучившую книгу,
На праздничный народ.
И жду – под гул толпы, ее веселья всплески, –
Что жаркой желтизной на белой занавеске
Луч солнечный мелькнет.
Вот он – единственный, сладчайший миг недели:
Пройдя сквозь жалюзи, потоком хлынул в щели
Рой золотых частиц;
Мое духовное он обостряет зренье
И оживляет вновь в моем воображенье
Рой мыслей, чувств и лиц.
Вновь связываются оборванные нити
Далеких радостных и горестных событий,
Прошедших благ и зол.
Когда-то в этот час кюре после вечерни,
Сказав нам о добре и о житейской скверне,
На хоры нас повел.
Светильник масляный и восковые свечи
Бросали желтый свет на строгий лик Предтечи,
На Девы нежный лик.
Наш старенький кюре, приблизясь к аналою,
Весь желто-восковой, как колос под косою,
Главой своей поник.
Кто мог противиться внушенным нам понятьям?
Кто пред желтеющим в церковной мгле распятьем
Не преклонял колен?
Кто усомниться мог, вперяя взоры снова
В страницы желтые Евангелья святого,
Что все земное – тлен?
…………………………………………………
Стемнело… Голоса былого замолчали…
Спускаюсь, и – туда, где тонут все печали:
В людской водоворот.
Полны все кабачки. Толкучка, шум нестройный;
Калека под хмельком куплет малопристойный
Простуженно орет.
Бранятся, шутят, пьют – резвятся на свободе;
Целуют, тискают при всем честном народе
Подвыпивших подруг.
И, сытый зрелищем житейской карусели,
Я дома до утра ворочаюсь в постели
Под выкрики пьянчуг.
Вопреки слезам «мировой скорби», частенько застилающим взор горемыки из парижского предместья, подобные наблюдательные наброски у Сент-Бёва «исполнены свежести и чистоты» (Пушкин). Далеко не сразу это лирическое открытие города было в самой Франции распознано, принято и освоено – понадобилась благодарно-прозорливая по хвала Бодлера, чтобы наследие Сент-Бёва-стихотворца[7] не оказалось забыто. И если в звучном хоре тогдашних французских певцов голос одного из скромных poetaeminores все же не затерялся, то как раз оттого, что был глуховатым, слегка надтреснутым, с хрипотцой.
Второй призыв
Огюст Барбье, Алоизий Бертран, Альфред де Мюссе, Теофиль Готье, Жерар де Нерваль
Пополнение молодых новобранцев, вступивших под романтические знамена в самый канун и сразу после революции 1830 года, когда первые внушительные победы над ложноклассическим рутинерством во Франции были уже одержаны, естественно, чувствовало себя гораздо раскован нее своих старших товарищей и перед сводом дедовских правил в поэтике, и перед охранительной благонамеренностью.
Выходцу из этого младшего поколения, Огюсту Барбье (1805–1882), обязана своим рождением открыто злободневная гражданская лирика[8] французского романтизма, дотоле лишь проклевывавшаяся от случая к случаю. Дата появления на свет этого пылкого обличительного витийства устанавливается совершенно точно – конец лета 1830 г., когда появился «Собачий пир» Барбье, громовый отклик на недавнее трехдневное восстание парижан и последовав шее за ним учреждение Июльской монархии.
Сам Барбье ни тогда, ни позднее революционером не был. Однако нравственное возмущение вопиющей несправедливостью произошедшего владело им на сей раз так сильно, что на бумагу сами ложились строки, в которых многим и во Франции, и вскоре в России (а здесь Барбье соперничал в славе с Беранже и Гейне) слышался не просто гнев, но и повстанческий клич.