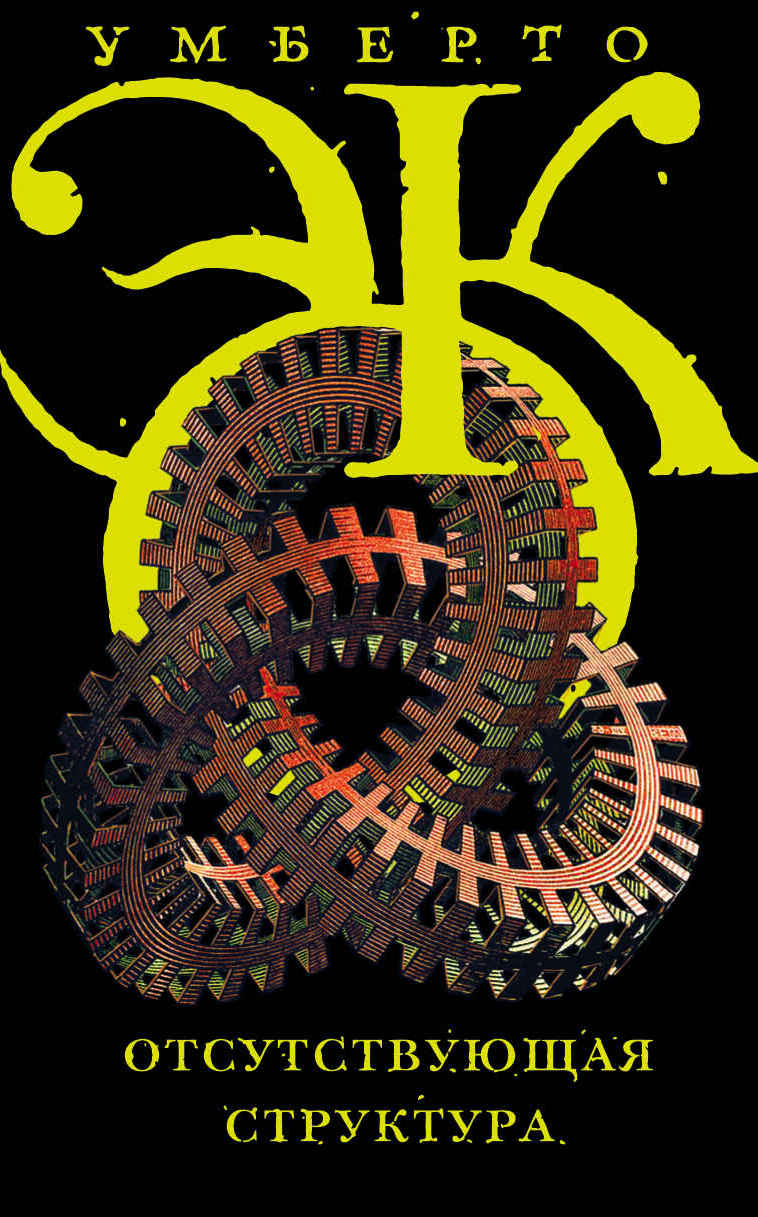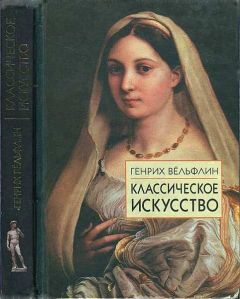осуществляться на основе иного более фундаментального кода.
I. 2. Код какого-то конкретного фильма и кинематографический код не одно и то же; последний кодифицирует воспроизведение реальности посредством совокупности специальных технических кинематографических устройств, в то время как первый обеспечивает коммуникацию на уровне определенных норм и правил повествования. Несомненно, код фильма базируется на кинематографическом коде в точности так, как стилистические риторические коды основываются на коде лингвистическом в качестве его лексикодов. Но следует различать две стороны дела: означивание в кино вообще и коннотацию в фильме. Понятием кинематографической денотации охватывается как кино, так и телевидение, потому Пазолини и назвал эти кинематографические формы коммуникации «аудиовизуальными». С этим можно согласиться при условии, что мы отдаем себе отчет в том, что имеем дело со сложным коммуникативным явлением сочетания словесных, звуковых и иконических сообщений. Так, хотя вербальные и звуковые сообщения существенно влияют на денотативную и коннотативную значимость иконических фактов (в свою очередь подвергаясь обратному воздействию), все же они опираются на собственные независимые коды, каталогизируемые иначе (например, если персонаж фильма говорит по-английски, то его речь, по крайней мере в чисто денотативном плане, регулируется кодом английского языка). Напротив, иконическое сообщение, предстающее в характерной форме временного иконического знака (т. е. в движении), обретает особые свойства, которые будут рассматриваться отдельно.
Разумеется, мы вынуждены здесь ограничиться лишь немногими замечаниями о некоторых возможностях кинематографического кода, не углубляясь в проблемы стилистики, кинематографической риторики и построения крупных кинематографических синтагм. Иными словами, предлагается определенный инструментарий для анализа предполагаемого «языка» кинематографа, как если бы по сю пору кино не произвело на свет ничего иного, кроме «Прибытия поезда» и «Мокрого поливальщика» (это что-то вроде того, как если бы мы попытались дать первый набросок системы итальянского языка на основе только такого памятника, как Carta Сариапа).
При этом будем опираться на вклад в исследование проблем семиологии кино, внесенный К. Метцем и П. П. Пазолини [147].
I. 3. Метц, рассматривая возможности исследования кино с точки зрения семиотики, признает наличие некой далее неразложимой исходной единицы, своего рода аналога реальности, которая не может быть сведена к какой бы то ни было языковой конвенции, и тогда семиологии кино ничего не остается, кроме как стать семиологией речи, за которой не стоит язык, семиологией неких определенных типов речи, т. е. семиологией больших синтагматических единиц, сочетание которых порождает дискурс фильма. Что же касается Пазолини, то он, напротив, полагает, что говорить о языке кино можно, резонно считая, что языку, чтобы быть языком, необязательно обладать двойным членением, в котором лингвисты усматривают неотъемлемое свойство словесного языка. Но в поисках артикуляционных единиц кинематографического языка Пазолини не может расстаться с сомнительным понятием «реальности»; и в таком случае первичными элементами кинематографического аудиовизуального языка должны стать сами объекты, улавливаемые объективом кинокамеры во всей их целостности и независимости и представляющие собой ту самую реальность, которая предшествует всякой языковой конвенции. Пазолини говорит о возможной «семиологии реальности» и о кино как о непосредственном воспроизведении языка человеческого действия.
I. 4. Итак, теме образа как некоего аналога реальности посвящена вся первая глава данного раздела (вл); об образе как аналоге реальности имеет смысл говорить в том случае, когда целью исследования является анализ крупных синтагматических цепей, чем и занят Метц, а не образ как таковой, но это понятие может вводить в заблуждение, когда, двигаясь в обратном направлении, ставят вопрос о конвенциональной природе образа. Все сказанное об иконических знаках и семах относится также и к кинематографическому образу.
Впрочем, сам Метц [148] полагает возможным совместить два направления: существуют коды, назовем их культурно-антропологическими, которые усваиваются с мига рождения, в ходе воспитания и образования – к ним относятся код восприятия, коды узнавания, а также иконические коды с их правилами графической передачи данных опыта, но есть и более технически сложные специализированные коды, например, те, что управляют сочетаемостью образов (иконографические коды, правила построения кадра, монтажа, коды повествовательных ходов), они складываются в особых случаях, и ими-то и занимается семиология фильмового дискурса, дополнительная по отношению к возможной семиологии кинематографического «языка».
Такое разделение может быть продуктивным с учетом того обстоятельства, что оба указанных блока кодов находятся во взаимодействии, обуславливая друг друга, и, таким образом, изучение одного предполагает изучение другого.
Например, в фильме Антониони «Blow Up» некий фотограф, нащелкав в парке множество фотографий и возвратившись к себе в ателье, принимается их последовательно увеличивать и обнаруживает очертания лежащего навзничь человеческого тела: некто убит из пистолета – его держит рука, различимая в листве изгороди на другой увеличенной части снимка.
Но этот повествовательный элемент, обретший в фильме и в посвященной ему критике смысл отсылки к реальности как к последней инстанции, к неумолимому всевидящему оку объектива, актуализуется, только если иконический код соотносится с кодом повествовательных ходов. И вправду, будь это фотоувеличение показано кому-нибудь не знающему, что происходит в фильме, вряд ли он опознал бы в этих расплывчатых пятнах лежащее навзничь тело и руку с револьвером. Значения «труп» и «рука, вооруженная револьвером», приписываются конкретной значащей форме только потому, что накапливающаяся по ходу повествования неопределенность заставляет зрителя (как и героя фильма) увидеть это. Контекст выступает как идиолект, наделяющий значениями сигналы, которые в ином случае показались бы просто шумом.
I. 5. Эти наблюдения опровергают представление Пазолини о кино как о семиотике реальности, и его убеждение, согласно которому простейшими знаками кинематографического языка являются реальные объекты, воспроизведенные на экране (убеждение, как теперь это очевидно, отличающееся исключительной наивностью и противоречащее основным задачам семиологии – по возможности рассматривать природные факты в качестве явлений культуры, а не наоборот – сводить явления культуры к природным феноменам). И, тем не менее, в рассуждениях Пазолини кое-что заслуживает внимания, потому-то сам спор с ним небесполезен.
Определить действие как язык небезынтересно с семиологической точки зрения, но Пазолини употребляет слово «действие» в двух различных смыслах. Когда он говорит о том, что свидетельства, оставшиеся от доисторического человека, суть продукты его деятельности, он понимает действие как физический процесс, положивший начало существованию объектов-знаков, опознаваемых нами в качестве таковых, но не потому, что сами они представляют собой действия (даже если в них можно усмотреть следы деятельности, как и в любом акте коммуникации). Это те же самые знаки, о которых говорит Леви-Стросс, когда рассматривает орудия, утварь, которыми пользуется некое сообщество, в качестве элементов коммуникативной системы, то есть культуры в ее совокупности. Однако этот тип коммуникации не имеет ничего общего с действием как значащим жестом, которое как раз больше всего и интересует Пазолини, когда он говорит о языке кино. Посмотрим,