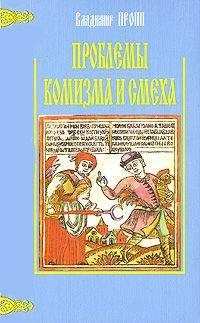25
Большая откровенность, то есть меньшая изощренность, скорее, говорит о культурной вторичности.
Садовников практически включил всего Худякова в отличие от последующих составителей собраний, претендующих на полноту.
Тенденция фольклора антропоморфизировать предметы окружающего мира представляет собой особую проблему. В книге «Ономастикон восточнославянских загадок» А. В. Юдин отметил: «Одним из основных способов создания “заместительных концептов” в восточнославянских загадках является персонификация (и антропоморфизация как ее разновидность). <…> Легко персонифицируются и антропоморфизируются светила и стихии, праздники и части тела человека, разнообразные постройки, наконец, бытовые предметы, причем даже те из них, которые обычно относят к категории “неподвижных” (“неперемещающихся”), не говоря уже о “подвижных”. Основанием для этого служат широко распространенные и многократно описанные исследователям и представления об антропоморфности домашней утвари, в частности мебели, инструментов, посуды и т. д. Эти предметы представлялись изоморфными человеческому телу» (Юдин 2007: 11). С этим обстоятельством автор связывает широкое употребление человеческих имен для замещения загадываемых предметов в восточно-славянской загадке. Тут легко за лесом не увидеть деревьев, растворить особую жизнь загадки в более широкой фольклорной тенденции. Антропоморфизация является не единственным способом создания заместительных концептов: они создаются и обратным путем – путем замещения живых существ или частей тела названиями предметов, а также животных. Значительная часть ономастикона загадки состоит из топонимов (в отличие от антропонимов). Значит антропоморфизация сама по себе в отношении загадки ничего не объясняет. В конце «Ономастикона» читаем: «…мы должны констатировать, что даже обращение к одной группе заместительных номинаций [то есть к именам, – С.С.] из близких загадок действительно обнаруживает значительное единство принципов их образования с табуистическими языками» (там же: 93). Приведение антропоморфизации к табуированию важно: табу немыслимо без определенной задачи. К сожалению, автор видит суть табуистических языков в отличении «своих» от «чужих», то есть опять-таки размывает специфику загадки. Но у загадки свой табуистический язык, со своими целями, не общими; он выясняется из анализа загадки и не должен быть вносим в нее извне.
Параллель: реконструируя архаический корень паллиаты (римской комедии плаща), О. М. Фрейденберг нашла, что его представляют два персонажа – εἲρων, притворщик, выдающий себя за другого, и ἀλαζών, хвастун, приписывающий себе чужое (Фрейденберг 1973: 504). Вопрос и разгадка как бы предвосхищают эти роли. Эйрон и аладзон – быть может, наиболее верные имена для составляющих бинома загадки, обычно называемых описанием и разгадкой.
В фольклоре зарегистрирован мотив обращения с речью к вагине, чтобы проверить ее невинность: ответная речь свидетельствует о порочности (Томпсон 1955: D1610.6.1). Молчание самого табуированного предмета (не путать с молчанием о нем) должно быть свидетельствует об остром архаическом чувстве распределения функций между визуальностью и оральностью (устной словесностью). Следует вспомнить, что древнейшая форма письма, иероглифическая, была основана на образности, но ненатуралистического характера, – она требовала знания и искусства. Письмо и чтение были иератическими знаниями – способность сочетать образ и слово должна была пониматься как исключительная, как особый дар. Мотив говорящей/молчащей вагины, зарегистрированный в уже в новое время, должно быть, хранит архаическую память. Нетрудно себе представить, насколько просто этот мотив может быть тривиализован в современном феминистском ключе, что свидетельствует о полной нестыковке архаического сознания с рационалистическим и напоминает о необходимости археологической осторожности в реконструкции первого. Фаллическому символу в загадке, наоборот приписывается шум – выстрел (ружья) или крик (петуха), но ведь и шум – иная, нежели молчание, противоположность речи.
Описываемый тип гротеска не совпадает со знаменитым описанием у М. М. Бахтина в книге о Рабле: он не направлен на переворачивание нормального порядка вещей. Более широкая и подходящая теоретическая база может быть найдена в работе основоположника теории гротеска: Флёгель 1788, а также в наиболее глубокой работе об этом предмете, книге В. Э. Мейерхольда 1912 года «О театре» (Мейерхольд 1968: I.224-29). Последний определяет гротеск как «произведение юмора, связывающего без видимой законности разнороднейшие понятия» (там же: 224-5).
Сказанное об истории жанра загадки не относится к общей картине истории жанров, во всяком случае к ее основной тенденции. В высоких стратах культуры наблюдаются продолжительные восходящие линии развития жанров, прежде чем они идут под уклон. Но загадка, одна из самых древних культурных традиций, должна быть рассмотрена на своих собственных условиях.
Заметим попутно: мотивы полового значения в загадке тяготеют к амбивалентности.
Дисциплины, соответствующей развиваемому здесь представлению о фигуративе, не существует – слишком элементарны знания в этом направлении. Если такой дисциплине предстоит возникнуть, то она должна начаться с разграничения тропов, или фигур, в риторике и поэтике, с одной стороны, и, с другой, в поэтике и глубинной психологии.
Работа Проппа дала Клоду Бремону идею построить на ее основе общую теорию нарратива (Бремон 1964), за чем последовали усилия в этом направлении многих других; аналогично любой троп может быть рассмотрен на фоне загадки как особенно богатого тропа. Я пользуюсь здесь понятием теории фигуратива для обозначения дисциплины, которой еще нет.
Именно эта установка сказки и ее теории на референциальную область привела нарратологию к выходу за пределы искусства слова, не предусмотренному Проппом. Выходу куда? В логику событийности?
Как, например, теория метафоры и метонимии Р. О. Якобсона («Linguistics and Poetics» // Якобсон 1966).
В этой связи возникает вопрос антропологического характера: не мыслит ли человек на ранних стадиях культуры, так сказать, глубинными потенциалами своего сознания? Согласно экспликациям К. Леви-Страусса, мифологическое мышление протекает в смысловых структурах, гомологичных тем, которые были открыты Н. С. Трубецким и Р. О. Якобсоном на фонологическом, то есть на глубинном и скрытом, бессознательном уровне языка. Если это так, то развитие человеческой мысли и культуры идет в сторону большей поверхностности и, соответственно, свободы.
«Загадка чаще всего не поддается прямому переводу» – заметил Вольфганг Шульц (1912: XII).
Вольфганг Шульц, рассмотревший контекстуальные значения мотивов в богатой архаическими чертами мекленбургской традиции (представленной в собрании Воссидло), пришел к выводу, что взаимно связанные мотивы черный и белый восходят к сексуальному значению: черный имеет свое начало в контексте кузницы и ковки (тут место мотива угля); в ряду черного он нашел и мотив крота (Шульц 1912: гл. 5).
Отчетливо влияние раешного (профессионального скоморошьего) стиха на русскую загадку.
Этот принцип, вероятно, сохраняет свою силу и для изучения других жанров.
Перспектива, разворачиваемая вглубь частного феномена культуры, принципиально отличается от генерализаций такого типа, какой представлен в книге Йохана Хойзинги «Homo ludens» (1938). Легко согласиться с предположением, сделанным в ней, что игра является кардинальной чертой человеческой цивилизации, но Хойзинга обратил это усмотрение в банальность, продемонстрировав свой тезис списками отобранного материала, сопровождаемого беглым обзором таких выделенных характеристик игры, как интуитивность, условные правила и агонистическая форма. Обзор примеров, подобранных к схеме, сформулированной с порога, не имеет ничего общего с анализом, зато претендует на статус работы, которую «едва ли возможно не принять». Не случайно, включив в свой обзор загадку и посвятив ей отдельную главу, Хойзинга вообще упустил народную загадку. Такой подход минует проблемы. Зато такого рода псевдоаналитические концепции обречены на успех в академической среде.
Тяготение обсценного эротического языка к гротескности хорошо продемонстрирована в книге: Парос 1984.