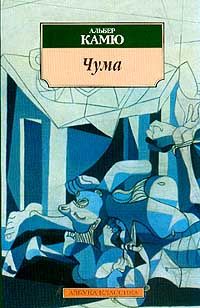Последняя, согласно Камю, и в их житейской философии, внушающей необходимость сохранять самообладание даже в пылкой страсти, поверять умом необузданные порывы сердца, и особенно в самой манере строить повествование, когда писатель не идет слепо за материалом, а подчиняет его своему замыслу с поразительной настойчивостью, хладнокровно жертвуя всем неважным, делая упор на чем-то одном-единственном и добиваясь предельной простоты, прозрачности, обнаженности, ясной очевидности рассказанного. «Значительная доля французского гения состоит в этом осознанном усилии придать крикам страсти упорядоченность чистой речи» (I, 1889). Разум, отчетливая мысль тут полновластные хозяева, на каждой странице одерживающие победу над прихотливой вереницей случайностей; вдохновение полностью послушно уму и умению. И это дает книги «одновременно суховатые и обжигающие, где, вплоть до эшафота, без малейших срывов осуществляется верховное правление ума» (I, 1894). И хотя, как и в «Мифе о Сизифе», бытие внешнее для Камю по-прежнему остается загадочно-непроницаемым игралищем стихий, тем не менее все остальное – духовная жизнь и особенно ее воплощение в слове – принадлежит к владениям интеллекта бодрствующего, ни на миг не прекращающего своей работы и потому являющегося опорой и пружиной творчества. «Скромная ясность» отвоевывает себе пусть небольшую, но по возможности надежную площадку посреди неразличимого хаоса, относительно которого у нее, впрочем, имеется по-своему ясное суждение: там – сплошная темень.
А вместе с этим частичным восстановлением разума в правах возникают предпосылки и для ответа на то «зачем?», перед которым недоуменно разводила руками «абсурдная эстетика», соглашаясь с ненужностью и бесполезностью творчества для кого бы то ни было, кроме самого творца. Когда мысль овладевает жизненным материалом, подчиняя его себе и заставляя служить своим устремлениям, она неизбежно преследует какую-то цель, имеет свою задачу, намеревается что-то внушить, доказать, утвердить. Обращение вовне здесь предполагается, а вместе с тем и ответственность ее носителя перед теми, к кому она обращена, и, следовательно, предназначение, отнюдь не сводящееся к производству побочных и, в сущности, неважных плодов образцового сизифова труда «ни для чего». Камю больше не может придерживаться строго «Мифа о Сизифе», где если и не выдвигался прямо лозунг «искусства для искусства», то излагались взгляды, из которых формалистические заключения выводимы по крайней мере с той же логичностью, что и любые другие. Теперь, в статье об Оскаре Уайльде «Художник в тюрьме» (1952), он достаточно определенно отмежевывается от творчества, которое, пренебрегая земными заботами, радостями, тяготами, самодовольно замыкается в своей утонченной искусственности, «обрубает собственные корни и лишает себя жизни» (II, 1126). Ему кажется крайне поучительной трагедия высокомерного эстета, поклонника красоты, презрительно отстранявшегося от обыденности, а затем однажды, под ударами недоброй судьбы, вынужденного прозреть, поняв, что «искусство, которое отвергает правду повседневности, тем самым утрачивает жизнь» (II, 1127), становится никчемной безделицей.
Напротив, наиболее плодотворным в литературе последнего столетия Камю отныне представляется путь Толстого, Горького, Мартен дю Гара и других писателей, умевших «говорить на языке одновременно простом и прекрасном о том, что есть самого великого в сердце человека, в его радостях и страданиях» (II, 1912). В письме редактору одного из социалистических журналов, просившему его высказаться, как он мыслит себе литературу для рабочих, Камю в первую очередь отсылал к этим именам, поскольку именно в их книгах усматривал равновесие между «сердечной простотой и самым изысканным вкусом… Литература нашего времени, которая на деле есть литература для торгашеских классов, это равновесие нарушила. Она нарушила его не только в пользу утонченности и вычурности, что сразу же отдалило ее от рабочего читателя. Она нарушила его также – и это понятно, когда хотят нравиться торгашам, – своей вульгарностью и смехотворной глупостью» (II, 1912).
Выход из кризиса, вызванного преобладанием буржуазного духа в культуре XX века, видится Камю в творческом воплощении «той истины, что между трудящимся и художником существует глубинная солидарность, хотя сегодня они безнадежно разобщены. Тиранические режимы, равно как и демократии денежного мешка, знают, что для сохранения их владычества необходимо разделить труд и культуру. Что касается труда, то им почти достаточно экономического угнетения, соединенного с изготовлением подделок под культуру… Что касается культуры, то здесь свое дело делает подкуп и оглупление. Торгашеское общество осыпает золотом и привилегиями забавников, увенчанных званием художников, и толкает их к бесконечным уступкам. Соглашаясь на эти уступки, они оказываются скованными своими привилегиями, отделенными от трудящихся. Против такого разделения и вы и мы, профессиональные художники, должны бороться… В день, когда наше взаимное движение навстречу друг другу достигнет своего предела, больше не будет художников по одну сторону и рабочих по другую, а единый класс творцов в полном смысле этого слова» (II, 1914). Вопреки двум взаимодополняющим и чрезвычайно распространенным ныне на Западе точкам зрения на искусство – элитарной и вульгарной, оправдывающей дешевые поделки духовного ширпотреба, – поздний Камю, по крайней мере в ряде своих высказываний (в частности, еще и в предисловии 1955 года к сочинениям Мартен дю Гара), отстаивает желательность того, чтобы творчество было укоренено в простой жизни и вместе с тем принадлежало высокой духовной культуре.
Такой подход никак не совместим с прежними рассуждениями о коренной бесполезности результатов работы художника. В «Мифе о Сизифе» последний рисовался изначально и навечно одиноким, «других» как бы вовсе не существовало; в послевоенных статьях Камю постоянно мелькает введенное Сартром понятие «завербованности», «вовлеченности» (engagement) писателя, его погруженности в общественный поток и ответственности за выбор своей позиции. «Само искусство заставляет художника быть бойцом, – подчеркивал Камю в выступлении 1948 года «Свидетель свободы». – По самому своему назначению он есть свидетель свободы, и в этом его оправдание, за которое ему случается дорого платить. По самому своему назначению он вовлечен в гущу истории» (II, 405).
Этот взгляд на судьбу и призвание мастеров культуры у Камю несет на себе отпечаток тех исторических потрясений, очевидцем которых ему довелось быть, и вместе с тем крепко увязывается с философскими посылками, при всех переменах составлявшими стержень его мировоззрения. Разгул фашистского человеконенавистничества, обезличка и порабощение личности, принесение ее в жертву обожествленным псевдоистинам, при случае навязываемым всем на свете под страхом уничтожения, побуждают Камю выдвинуть во главу угла защиту отдельного неповторимого человека в качестве высшей ценности бытия, по-своему более важной, чем любые достижения истории. Сегодняшний художник, по Камю, – прежде всего соперник «завоевателя» (в «Мифе о Сизифе» они почти приравнивались друг к другу), прибегающего к захватам и жестокому принуждению, чтобы повсюду насадить уклад жизни и манеру думать, которые он сам произвольно полагает благом, хотя бы оно и было для остальных совершенно чудовищным и диким. «Художник, живя и творя на уровне плоти и страсти, знает, что нет вещей простых и что другие существуют. Завоеватель хочет, чтобы другие не существовали, его мир – мир хозяев и рабов, тот самый, где мы ныне и обитаем. Мир художника – это мир живого оспаривания и понимания. Я не знаю ни одного великого произведения, которое было бы построено исключительно на ненависти, тогда как нам известны империи ненависти. Во времена, когда завоеватель по самой логике своего положения становится судебным исполнителем и полицейским, художник вынужден быть непокорным отщепенцем. Перед лицом теперешнего политического общества единственная последовательная его позиция, если он не желает отказаться от своего искусства, – это протест без всяких уступок. Ведь не может же он быть, даже захотев этого, сообщником тех, кто прибегает к языку и средствам сегодняшних пропагандистских мифологий» (II, 404). «Он сражается против исторических отвлеченностей, чтобы отстоять то, что превыше всякой истории, – живую плоть, будь она страдающей или радующейся. Вся нынешняя Европа, застыв в своем высокомерии, кричит ему, что занятие это тщетно и смехотворно. Но мы для того и существуем, чтобы доказывать обратное».
Признание включенности творца и творчества в сегодняшнюю историю при упорной защите их внеидеологичности, независимости от общественных лагерей – эта позиция, на поверку сплошь и рядом оказывающаяся благим пожеланием (в частности, и в писательской биографии самого Камю), выглядит прямым переносом в область эстетики устремлений моралистического гуманизма Камю. По сути, художник выступает здесь как последовательный носитель заветов, которые исповедовались врачевателями «Чумы». Он даже настойчивее, чем кто бы то ни было, твердит 2+2=4 простейшей нравственности, упрямо отказываясь прибегать к высшей исторической математике: поскольку там нередко подвизаются также и корыстные прохвосты, научившиеся ссылаться на знание исторических судеб и тем оправдывать опасную извилистость дорог, куда увлекают за собой других, то он предпочитает остеречься и склонен подозревать все это занятие в сплошном вредоносном шарлатанстве. Логика не слишком надежная, зато страховки с избытком.