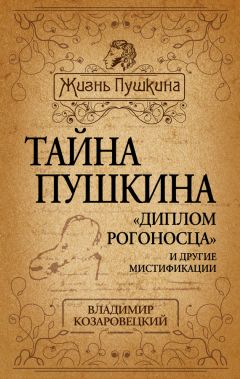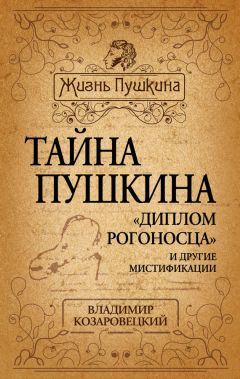«Плешивый», «Щеголь», «Враг труда» —
Буффонил недругов!
– Тогда
Его не благоумно звали,
Когда канальи-повара
У Государева шатра
Орла двуглавого – щипали…
– Что Слава? В прихотях вольна,
Как огненный язык, она
IV
По избранным главам летает.
Чреда блистательных побед
С одной сегодня исчезает
И на другой мелькает вслед.
За новизной бежать смиренно
И возносить того священно,
Над коим вспыхнул сей язык,
Народ бессмысленный привык.
– На троне, на кровавом поле,
Меж граждан на стезе иной,
Твоею властвует душой
Из них, избранных, кто всех боле?
– Все он, сей дерзостный пришлец,
Еще незнаемый в конец
V
Сей всадник. Вольностью венчанный,
Пред кем склонилися цари,
Сей муж судеб: иль странник бранный,
Иль тень исчезнувшей зари…
Нет, не у щастия на лоне,
Не зятем Кесаря на троне
Его я вижу, не в бою,
Но там, где на скалу свою
Ступил последний шаг Героя.
Изгнанный манием царей,
Осмеян скопищем вралей,
Измучен казнию покоя,
Он угасает, недвижим,
Плащом закрывшись боевым.
VI
– Что царь?
– На Западе гарцует,
А про Восток и в ус не дует.
– Что Змий?
– Ни капли не умней,
Но пуще прежнего важней,
И чем важнее, тем тяжеле
Соображает патриот.
– О рыцарь плети, граф Нимрод,
Скажи, зачем в постыдном деле
Погрязнуть по уши пришлось,
Чиня расправу на авось?
VII
Авось, о шиболет придворный!
Тебе куплетец посвятил
Тот «стихотвор великородный»,
Кто наугад предупредил:
«Авось, дороги вмиг исправят…
– Авось, временщиков ославят,
Иль повредит нежданно лоб
Рысистых лошадей холоп.
– Авось, аренды добывая,
Ханжа запрется в монастырь…
Семействам возвратит Сибирь,
Авось, – по молви попугаев —
«Неблагоумных сыновей,
Достойных участи своей».
VIII
Тряслися грозно Пиринеи,
Волкан Неаполя пылал.
Безрукий Князь друзьям Мореи
Из Киммерии подмогал.
Олимп и Пинд и Фермопилы
Недаром накопили силы,
Страну героев и богов,
При пеньи пламенных стихов
Тиртея, Байрона и Риги,
Недаром потрясала брань:
– Возстань, о Греция, возстань,
Расторгни рабские вериги!
На прахе мраморных Афин,
Под сенью царственных вершин.
IX
На гробах праотцев Перикла,
Воспрянь, о Греция, воспрянь!
Свобода заново возникла…
Элладе протянула длань
И доле двинулась Россия,
В свои объятия тугие
И пол-Эвксина приняла
И Юг державно облегла.
Решен в Арзруме спор кровавый,
В Эдырне мир провозглашен,
Опять кичливый враг сражен,
Опять увенчаны мы славой,
И ты, к Отечеству любовь,
Два чувства сопрягаешь вновь.
X
В них обретает сердце пищу
Два чувства дивно близки нам:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня,
Как без треножника пустыня
И, как алтарь без божества,
Земля была б без них мертва,
На них основано от века
По воле Бога самого,
Залог величия Его —
Самостоянье человека.
Разгадывая ребус Пушкина, Лацис не знал, что рассказ ведется не от имени поэта, что «автор» в романе – Онегин, которого Пушкин заставил пользоваться приемами архаиста Катенина – и, в частности, галлицизмами; тем ценнее его догадка об использовании Пушкиным галлицизмов вроде «ниже исколот» (в смысле «в конец опозорен»). Знай он работу А.Баркова «Прогулки с Евгением Онегиным», задача его была бы существенно облегчена, и ему бы не пришлось ломать голову, по какой причине Пушкин в черновике зачеркивает слово и ставит над ним другое, похуже, а затем зачеркивает и это и ставит третье – еще хуже: очень уж удачные строки своему антагонисту Пушкин отдавать не хотел.
I
«ПОЛТАВА» в пушкинском творчестве занимает исключительное место: это его единственное произведение, где главные герои неамбивалентны, что в прямом прочтении ее текста как эпического повествования от лица поэта (а именно так поэма читалась и читается вплоть до нашего времени) резко снижает ее художественность. «Мазепа, пожалуй, первый из пушкинских характеров, выдержанный с начала до конца как резко отрицательный, заслуживающий самого сурового приговора, в нем нет ни одной светлой противоречащей его злым помыслам черты», – писал один из лучших наших пушкинистов Б.С.Мейлах. «…В творчестве Пушкина трудно найти другой пример такой однозначно отрицательной оценки персонажа, лишенной даже попытки дать характеристику героя “изнутри”…» – вторил ему Ю.М.Лотман, приводя в пример «черты романтического эгоизма», которыми наделил Пушкин Мазепу:
Не многим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды
С тех пор как жив не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.
Точно так же, без «попытки дать характеристику героя “изнутри”», изображен и Петр. Но мог ли в этом случае Пушкин позволить себе подобную «роскошь» (такой попытки), зная, что первым читателем поэмы будет его главный, высочайший цензор – Николай I? Зная о преклонении Николая перед Петром, мог ли Пушкин открыто сказать о своем – неоднозначном – отношении и к Мазепе, и к Петру, и к Полтавской битве? Опыт мистификационных приемов скрытнописи, использованных в «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ» , оказался для него поистине спасительным в «ПОЛТАВЕ» .
Начиная с «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА» , в пушкинских произведениях нас прежде всего должен интересовать ответ на вопрос: а кто повествователь ? При жизни Пушкина отдельными изданиями, кроме романа, выходили только «ГРАФ НУЛИН» , «ПОЛТАВА» и «ЦЫГАНЫ» . Относительно «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА» и «ЦЫГАН» (вот и обещанное подтверждение шифровального замысла обложки поэмы) я уже объяснял причины, по которым Пушкин свое имя с обложки снимал; в «ГРАФЕ НУЛИНЕ» – и в ее отдельном издании, и в сброшюрованном через год издании «ДВЕ ПОВЕСТИ В СТИХАХ» (с поэмой Баратынского «БАЛ» ) – имени Пушкина на обложке тоже не было. И только на обложке «ПОЛТАВЫ» имя Пушкина стояло: игры наподобие изданий «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА» или его отдельных глав в этом случае были недопустимы. Пушкин не мог даже тени бросить на свой замысел, не хотел дать даже слабого намека во внешнем полиграфическом оформлении поэмы, который мог бы заронить малейшее подозрение в умысле. Он по-прежнему был под надзором, шпики постоянно находились рядом, ни царь, ни Бенкендорф ему не доверяли. Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы он не попытался обойти это препятствие, и для того, чтобы понять, как он это проделал, – перевернем обложку.
II
Сходство структур Первой главы пушкинского романа и «ПОЛТАВЫ» бросается в глаза: в поэме имеет место предисловие, пронумерованное римскими цифрами , посвящение «ТЕБЕ» , напечатанное без какой-либо нумерации страниц, текст самой поэмы с арабской пагинацией и примечания. Рассмотрим роль каждой структурной единицы.