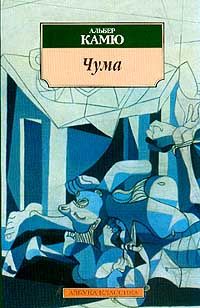44
Манн Томас. Собрание сочинений в 10-ти томах, т. 5. М., 1960, стр. 309–310.
Стоит, кстати, сопоставить эту «досаду» с душевными мука ми, которые испытывает героиня сделанной Камю пятнадцать лет спустя театральной обработки «Реквиема по монахине» Фолкнера (см. «Иностранная литература», 1970, № 9), где вина за гибель последней потаскушки, негритянки, тяжелейшим бременем ло жится на совесть ее белой хозяйки, – чтобы уже сейчас мысленно представить себе расстояние, которое предстояло пройти писателю.
Camus Albert. Carnets I, pp. 166–167.
Соловьев Э. Ю. Экзистенциализм. (Историко-критический очерк), II – «Вопросы философии», 1967, № 1, стр. 129. В этой работе, несмотря на досадные фактические неточности в подаче французского материала, сделана, как справедливо отметил в отзыве на нее И. Виноградов («Новый мир», 1968, № 8), одна из чрезвычайно плодотворных попыток перейти от сугубо доктринерского изобличения экзистенциализма к пристальному – и потому, по сути, гораздо более критичному – исследованию духовно-исторических корней этой философии и тех действительных значений, которые она имела в разных странах в разные моменты своего становления.
Сент-Экзюпери Антуан де. Сочинения. М., 1964, стр. 108, 190. Далее страницы в тексте указываются по этому изданию.
Наумов Н. Гуманизм Сент-Экзюпери. – В кн.: Antoine de Saint-Exupéry. Ceuvres. Moscou, 1964, p. 21.
См., напр.: Simon Pierre-Henri. Présence de Camus. Brux., 1961, p. 31.
24 августа 1944 года в Théâtre des Mathurins, постановщик Марсель Эран (он же – Ян), Марта – Мария Казарес, Мария – Элен Веркор, мать – Мари Калф.
«Непосредственная ученица Сизифа» справедливо усматривается в Марте в уже упоминавшейся выше кн.: Nguyen-Van-Huy P. La Métaphysique du bonheur chez Albert Camus, p. 76.
Simon Pierre-Henri. Théâtre et Destin. La signification de la renaissance dramatique en France au XXe siècle. P., 1959, p. 203.
Эта текстологическая работа была проделана Роже Кийо, который изложил ее результаты, а также привел отрывки из первоначального текста и заметки писателя в своем комментарии к собранию художественных произведений Камю (I, 1927–1998).
Подобные нарекания исходили даже от самых доброжелательных к Камю критиков «Чумы», зачастую его бывших товарищей по подполью. И не случайно он словно подтверждал их справедливость особенно болезненным восприятием и упорными стараниями оспорить, представив самый уязвимый недостаток как немалую заслугу. Заметнее всего это в его письме к Р. Барту от 11 января 1955 года (I, 1965–1967), где он указывает: «террор имеет множество обликов, и это служит мне оправданием: не обрисовав в точности ни одного из них, я ударил по всем сразу». Однако такие удары подобны стрельбе в белый свет как в копеечку и, конечно же, наносят противнику меньший ущерб, чем могли бы при выверенной прицельности.
Eluard Paul. (Euvres complètes, t. I, Bibl. de la Pléiade. P., 1968, p. 1185.
Picon Gaëtan. Remarques sur La Peste. – In «L’Usage de la lecture». P., 1952, p. 83.
Ionesco Eugène. Notes et contre-notes. P., 1962, p. 177. По свидетельству лиц, близко знающих Ионеско, он в «Носороге» (как и Камю в «Чуме») исходил из личных воспоминаний о своей жизни в Бухаресте в 1938–1939 годах: «он наблюдал тогда, как все большее число его знакомых, друзей присоединялось к движению Железных крестов. Как будто зараженные вирусом, они один за другим внезапно принимали точки зрения, манеру вести себя, стиль жизни, целеустановки, совпадающие с идеологией на подъеме и преображавшие их, хотели они того или нет, настолько, что отныне всякое общение с ними становилось невозможным для тех свидетелей происходящего, которые не были затронуты вирусом» (Serreau Geneviève. Histoire du «nouveau théâtre». P., 1966, p. 55).
Ionesco Eugène. Rhinocéros. P., 1959, pp. 135–136. Кстати, этой последней реплики не было в рассказе Ионеско 1957 года «Носорог» (сб. «La photo du colonel», 1962), служившем первоначальной разработкой для пьесы: в психологическом повествовании эти слова слишком явно расходились с достоверностью характера, которой легче пренебречь в фантастической театральной параболе.
Ionesco Eugène. Notes et contre-notes, p. 184.
Ibid, p. 216.
Шкунаева И. Современная французская литература. М., 1961, стр. 178.
Впрочем, чрезмерно упрекать здесь Камю и не приходится: это означало бы предъявить ему требование разом разрубить один из запутаннейших узлов европейской философской мысли, над которым бились и такие умы, как Кант или Гегель, не слишком преуспев. Первый настаивал на непричастности морали к науке и всецело уповал на тайный голос совести, прислушивающейся исключительно к самой себе и не ищущей себе подпорок в знании о ходе вещей вокруг; второй, напротив, отвергал беспочвенность «прекрасных душ» и усматривал добродетель в беспрекословном служении раз и навсегда им открытой необходимости мирового духа: нравственно все то, что помогает его развертыванию. Позже, в частности в «Записках из подполья», Достоевский резко столкнул между собой обе эти точки зрения: либо повиновение «каменной стене» и «арифметике», либо «все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться» (Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 10-ти томах, т. IV, М., 1956, стр. 143).
В XX веке вся критика научного фетишизма у Э. Гуссерля, Г. Марселя, К. Ясперса, М. Хайдеггера и других так или иначе призвана отвергнуть претензии натуралистического причинно-следственного мышления задавать свободной личности нравственные установки, кратчайшим логическим путем восходя от пользы к добру. С присущей ему почти житейской простотой, хотя и со страстной приверженностью к одной из позиций, излагал суть этих разногласий, обычно подкрепляемых громоздкими спекулятивными доводами, русский религиозный философ-идеалист Лев Шестов: «Судьба ведет покорных, влечет непокорных», – говорили Цицерон и Сенека, как бы нехотя признаваясь в том, что более тонкие философы предпочитали держать про себя. Древние, по-видимому, чувствовали, что они вовсе не добровольно идут, что их насильно влечет куда-то непобедимая роковая сила. Но говорить об этом они считали недозволенным. Это не согласно было с их представлением о философском достоинстве: какой это такой философ, если его насильно, точно пьяного в участок, тащут! Они предпочитали делать вид, что их не тащут, а они сами, по своей охоте, идут, и всегда твердили, что их охота совпадала с тем, что им уготовила судьба. Это значат и слова Шеллинга – «истинная свобода гармонирует со святой необходимостью» и «дух и сердце добровольно утверждают то, что необходимо»… Законы существуют, и больше ничего. Если они должны оправдаться перед моей прозорливостью, то я уже покусился на их непоколебимую сущность и считаю их как нечто, которое может быть для меня либо истинным, либо ложным. Но нравственное понятие заключается именно в том, чтобы неотступно пребывать в истине и воздерживаться от всякого изменения, колебания или отступления… Гегель но рассуждает, не аргументирует: он молится и поклоняется, и повелительно требует, чтобы все вместе с ним молились и поклонялись. Поклонялись законам, которые вперед оправданы тем, что не хотят ни перед кем оправдываться, не хотят даже рассуждать, откуда и когда они пришли. Всякая попытка не то что отказать им в повиновении, но хотя бы допросить их вперед рассматривается как бунт и мятеж… И вот мы стали свидетелями: лучшие философские умы соблазнялись мертвыми речами мертвых сущностей. «В начале было добро и истина» – нужно им повиноваться, нужно на них молиться. И вырвать из себя все, что протестует и возмущается против неизвестно когда и откуда пришедших властителей. Это называлось и сейчас называется философией. Людям кажется, что, если они возьмут сторону сильных, то их не то что помилуют, их тоже не помилуют, – но они будут вместе с властителями, им достанется часть власти… И они не добровольно, конечно, – какая живая душа добровольно пойдет на такое дело! – но все же записывались в «слуги и поденщики истины» (Фихте так именно и говорил) и гасили в себе и в мире все, что способно противиться и бороться с великим искушением». Сам Шестов логике античных мудрецов и их последователей предпочитает заветы библейских пророков и апостолов, подхваченные С. Киркегором: «Самое большое несчастье человека это безусловное доверие к разуму и разумному мышлению, начало же философии есть не удивление, как полагали древние, а отчаяние. Во всех своих произведениях Киркегор на тысячи ладов повторяет: задача философии в том, чтобы вырваться из власти разумного мышления и найти в себе смелость (только отчаяние и дает человеку такую смелость) искать истину в том, что все привыкли считать парадоксом и абсурдом. Там, где, по свидетельству нашего опыта, кончаются все возможности, где, по нашему пониманию, мы упираемся в стену абсолютно невозможного, где со всей очевидностью выясняется, что нет никакого исхода, что все навсегда кончено, что человеку нечего уже делать и не о чем думать и остается только глядеть и холодеть, где люди прекращают и должны прекратить всякие попытки исканий и борьбы, там только, по мнению Киркегора, начинается истинная борьба – и в этой борьбе задача философии» (Шестов Л. Умозрение и откровение. Париж, 1964, стр. 71–74, 238–239)…