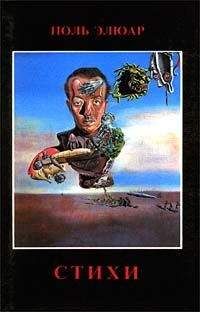В ранних книгах Десноса – «Траур для траура» (1924), «Свобода или любовь!» (1927; книга «удостоилась» такого же судебного преследования, как некогда «Цветы Зла» Бодлера и «Госпожа Бовари» Флобера) – ниспровержение мещанского ханжества и расчетливо-убогой трезвости перерастает в яростный «разгром интеллекта». Страницы этой нарочито растрепанной лирической прозы густо заселены причудливы ми миражами – жестокими и сладострастными, святотатственными, радужными, кошмарными, сулящими блаженство. Для визионера, находящегося во власти своих наваждений, бесплотные детища, рожденные его необузданным сновидчеством, гораздо более притягательны и достойны пера, чем явь каждодневного прозябания. Мановением волшебной палочки вымысла Деснос пробовал перечеркнуть серость будней, вернуть жизни остроту опасного приключения, подвига в краю пугающих и чарующих грез.
Столь же отчаянные вылазки затевал Деснос и в страну слов. Он обладал поразительной способностью к языкотворчеству и охотно употреблял ее на то, чтобы выворачивать наизнанку заезженные прописи, придумывать головоломные словесные ребусы, в кратких афоризмах играть на клавиа туре сходных корней и окончаний. Особенно ходким сырьем в лаборатории этой лингвистической «алхимии» были раз ного рода фразеологические обороты, поговорки, речевые штампы: легкий сдвиг, замена или перестановка в привычном языковом ряду давали подчас драгоценные находки, целые россыпи которых впоследствии будут встречаться в стихах Десноса. Пока же не менее обильны и отходы – словарные диковины, забавно придуманные и ловко изготовленные, но зашифрованные до того хитроумно, что в них не улавливается ничего, кроме виртуозных звуковых фоку сов.
Речевые экзерсисы, часто завершавшиеся отделением оболочки слова от его смысловой плоти, еще больше – по пытки преодолеть враждебную косность сущего с помощью сновидческих озарений не могли не усугубить у Десноса щемящего чувства своего разлада с жизнью, выломленности из нее: победы пьянящей мечты оказывались невсамделишными. Возникал обычный в таких случаях порочный круг, пройденный однажды и Элюаром: бунт, порожденный разочарованием, ополчался против всех и вся, но это лишало его опоры и удваивало исходное разочарование. Лирика Десноса тех лет, собранная им в 1930 г. в книге «Душой и телом», пронизана смятением мечтателя, который терпит крах, едва ступает, после воспарений в звездные дали фантазии, на землю. Здесь его тотчас же засасывает трясина, он бессильно барахта ется, окружаемый со всех сторон мерзкими чудищами. Он цепенеет в ужасе перед ликами смерти, распада, зла и в конце концов, завороженный всеми этими жуткими призраками, сдается. Судорожные рыдания и тихие жалобы слышат ся в песнях застигнутого катастрофой страдальца. Крылатые грезы дарят ему минутное забвение, но чем слаще золотые сны, тем мучительнее пробуждение. Через много лет Деснос сам сурово скажет об опасностях, подстерегавших его в те далекие дни, когда он возлагал все надежды на галлюцинации – эти заклинания счастья, которое не дается в руки:
По улицам кружить с отсутствующим взглядом,
Дрожать средь бела дня от страха и тоски,
Предчувствовать беду, зажатым быть в тиски
Теней невидимых и чуять гибель рядом, –
Вот что грозит тому, кто на своем пути
Запутался в мечтах, средь призраков блуждает,
Кто в царстве призрачном, где все плывет и тает,
Опору твердую пытается найти.
…………………………………………………
Отрыжка памяти, светил потухших тень,
Источник высохший, слова с печатью тлена,
Вы – смутные следы, вы – только прах и пена…
[86]
В любовных признаниях раннего Десноса, вошедших в его циклы «К загадочной» (1926) и «Потемки» (1927), этот разрыв между блаженством, которое химерично, доступ но лишь во сне, и на ощупь осязаемым, но неизбывным отлучением от радости сказался особенно болезненно. Возлюбленная, прославляемая Десносом, украшена всеми прелестями, наделена всеми совершенствами, но она – увы – бес плотна и неприступна. В ее поклоннике есть что-то от средневекового трубадура, который, слагая песнопения в честь прекрасной хозяйки замка, не решался, однако, к ней приблизиться, тем паче прикоснуться:
Из нежных и твердых деревьев, из сердцевины
дуба, из белой коры березы сколько
можно было бы сделать небес, океанов
и туфель для маленьких ног Изабеллы
туманной.
Из сердцевины дуба, из белой коры
березы.
Из неба сколько можно было бы сделать
теней на стене, сколько взглядов украдкой
и одеяний для стройного тела Изабеллы
туманной.
Из сердцевины дуба, из белой коры
березы, из неба.
Из океанов сколько можно было бы
сделать огней, сколько отблесков
на обелисках дворцов, сколько красочных
радуг над головой Изабеллы туманной.
Из сердцевины дуба, из белой коры
березы, из неба, из океанов.
Из туфель сколько можно было бы сделать
мерцающих звезд, и дорог через ночь,
и следов на песке, сколько лестниц,
чтобы на них повстречаться с Изабеллой
туманной.
Из сердцевины дуба, из белой коры березы,
из неба, из океанов, из туфель.
Но Изабелла туманная – вы понимаете? –
только мечта, что мелькает за яркой
листвою на дереве смерти
и страсти.
Мистическое поклонение издали для менестреля XX века столько же счастье, сколько и беда, проклятие. Десносу ведома изнанка безответного томления – часы горячечного бреда, когда, снедаемый лихорадкой желаний, он тщетно ловил руками пустоту рядом с собой. Любовь оборачивается напастью, насмешкой судьбы, дьявольской издевкой. Она манит, точно мерцание звезды в разрывах туч, но пошедший на этот притягательный проблеск низвергается в ад неразделенной страсти, все пытки которой выпали на долю бес сонного пленника «ночи ночей без любви»:
Ночь крови, ночь огня, ночь стонов без ответа,
Ночь бойни и резни, мечты убитой ночь,
Ночь лестниц спутанных, ночь тех, кому помочь
Нельзя уже ничем, ночь бездны и паденья,
Цепей гремящих ночь в подвалах преступленья,
Ночь голых призраков, что улеглись в кровать,
Ночь пробуждения, когда нет силы спать.
………………………………………………………
О ночь, наполненная гулом и тоскою!
Ночь, отразившая пожары в зеркалах,
Ночь нищего слепца с котомкою в руках,
Ночь без любви, о ночь позора и проклятья,
Ночь полицейского свистка в глуши дворов,
Ночь, заставляющая съеживаться платья,
Ночь, плотно запертая на глухой засов,
Ночь умирающих, ночь тихих голосов,
Ночь одиночества и мыслей о расплате.
Мольбы, проклятия, мрачные пророчества, душераздирающие излияния, бессвязные выкрики, стоны сливаются порой у любящего без взаимности Десноса в душевный вопль такой трагической мощи, о какой законодатель сюрреалистов Андре Бретон едва ли смел и помышлять, когда выдвигал лозунг: «Красоте надлежит сделаться конвульсивной или погибнуть».
Но если до поры до времени у Бретона, пожалуй, не было более ревностного приверженца, чем Деснос, то Деснос же оказался и одним из первых вероотступников. По мере того как в проповедях и зажигательных анафемах вожака школы все заметнее проступала ни для кого не опасная беззубость, а сам он запутывался в сомнительном политиканстве, Деснос отходил в сторону. Но настал момент, когда он нарушил молчаливое несогласие и во всеуслышание объявил платформу спасения через прорыв к подсознательному церковным катехизисом навыворот, предрассудком, который ловко при кинулся свободомыслием. В памфлете «Труп», под которым в числе двенадцати других Деснос поставил и свою подпись, Бретон был развенчан как узколобый блюститель мертвого культа, присвоивший себе право произвольно миловать и отлучать, навязывавший свои рецепты и «табу» с нетерпимостью сектанта. А затем в тексте, с вызовом озаглавленном «Третий манифест сюрреализма», Деснос уточнил, что его прежде всего отталкивают мистические поползновения «папы сюрреализма», мало-помалу превращавшегося в скрытого пособника тех, кто заново мостит дорожку к Богу: «Сюрреализм, как он сформулирован Бретоном, есть одна из самых серьезных угроз для свободной мысли, коварнейшая ловушка, которая расставлена атеизму, лучшая помощь в возрождении католичества и клерикализма».
Разрыв, наделавший тогда немало шума и предвещавший чреду тех, что за ним последовали, от еще более громкого в случае с Арагоном до не получившего особой огласки ухода Элюара, произошел в 1930 г. Миновав полосу гнилого послевоенного похмелья, Франция, помятая и разворошенная «великим кризисом», подходила к очередному историческому перепутью. Не за горами было время больших надежд и больших тревог: в 1934 г. парижане преградили дорогу фашизму у себя в стране, рождался Народный фронт, но по Берлину маршировали штурмовики, в Риме хозяйничали чернорубашечники, а вскоре пал и республиканский Мадрид. Алхимикам слова суждено было вскоре покинуть свои кельи, спуститься на людные площади и перекрестки, где кипели гражданские страсти. Даже тем, кто не признавал иного языка, кроме языка посвященных, рано или поздно предстояло преломить хлеб братства – общей судьбы и общих упований. В глазах обитателей «башен из слоновой кости» это была прискорбная и пятнающая повинность, для Десноса – священный обряд причащения, потребность в котором он уже давно испытывал. Работа журналиста, сперва в газетах, потом на радио – Десноса она тяготила и захватывала[87], – постепенно избавила его от пристрастия к туманной громоздкости словес, которыми в окружении Бретона охотно восполняли нехватку ясного знания самых насущных очевидностей. Исподволь зрела в нем мысль, что вернуть лирике свежесть может не охота в угодьях подсознательного, а прямое прикосновение к простым истинам жизни. Размежевавшись с былыми спутниками, Деснос возвестил «пришествие эстетики понимания».