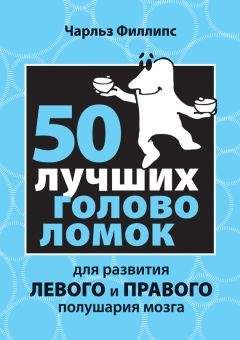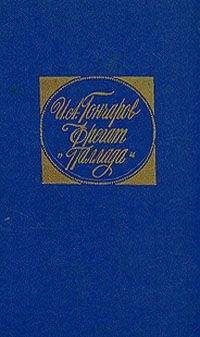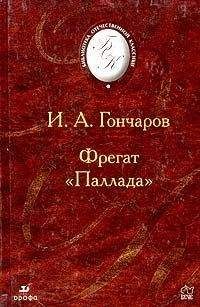«Здесь, здесь!..» – рубили колеса на стыках…» (IV, 470).
Marsel Proust. A la recherche du temps perdu. P., 1987. Т. I. Р. 541.
У Пастернака:
Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.
Расти себе пышные брыжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги. (I, 81)
От сжатия до жатвы – один шаг безоболочного воображения. У Мандельштама:
И – в легион братских очей сжатый —
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы… (III, 118–119)
В сталинской оде он рисует портрет вождя: «Сжимая уголек, в котором все сошлось…» (III, 113), а вождь на урожайном просторе «улыбается улыбкою жнеца» (III, 114). Что означает этот каламбур? Здесь не только единство (оба Иосифы) поэта и правителя. Сколь бы ни была велика заслуга товарища Сталина, искренне восхваляемая Мандельштамом, во всемирно-исторической жатве народов, заслуга художника несравнимо весомее: он своим хищным взглядом и космическим портретом может охватить и то, что сверхчеловеческим объятием и тысячелетней мудростью охватил вождь, и его самого. Все, что сжато сталинской рукой великого жнеца, сходится в точке, где зажат прометеевский уголек, рисующий картину, захватывающую дух и раздвигающую все горизонты. По Мандельштаму, искусство правит миром. И единственный истинный самодержец – поэт, потому что ось мира проходит через него.
«Слово есть уже образ запечатанный.» (Мандельштам) – как письмо, как бутылка с посланием, брошенная в море. В «Шуме времени» Мандельштам рассказывал о француженках, которых ему нанимали в детстве для изучения французского языка: «Где-нибудь в Иль-де-Франсе: виноградные бочки, белые дороги, тополя, винодел с дочками уехал к бабушке в Руан. Вернулся – все «scelle» [опечатано (фр.)], прессы и чаны опечатаны, на дверях и погребах – сургуч. Управляющий пытался утаить от акциза несколько ведер молодого вина. Его накрыли. Семья разорена. Огромный штраф, – и в результате суровые законы Франции подарили мне воспитательницу» (II, 354). Здесь уже рукой подать до впечатления: «Семилетний ребенок прильнул к окну поезда, жадно впитывая впечатления» (II, 592). Мандельштамовский ребенок, как губка, впитывает то, что видит, во-первых, сжимая со страшной скоростью число своих впечатлений, а во-вторых – запечатывая их в душе, для твердой записи мгновенной, как грамоты властной печатью, как винные бочки – для долголетней выдержки.
Владимир Набоков. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 329.
А. Н. Апухтин. Стихотворения. Л., 1961. С. 265.
Марина Цветаева. Неизданное. Записные книжки: Т. II: 1919–1939. М., 2001. С. 201.
Александр Пятигорский. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. М., 1996. С. 115–116.
М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997. С. 41. Мандельштам называл эту способность самоозначивания обратимостью поэтической материи: «Вместо того чтобы пересказывать так называемое содержание, мы взглянем на это звено дантовского труда (семнадцатую песнь «Inferno». – Г. А., В. М.) как на непрерывное превращение материально-поэтического субстрата, сохраняющего свое единство и стремящегося проникнуть внутрь себя самого.
Образное мышленье у Данта, так же как во всякой истинной поэзии, осуществляется при помощи свойства поэтической материи, которое я предлагаю назвать обращаемостью или обратимостью. Развитие образа только условно может быть названо развитием. И в самом деле, представьте себе самолет, – отвлекаясь от технической невозможности, – который на полном ходу конструирует и спускает другую машину. Эта летательная машина так же точно, будучи поглощена собственным ходом, все же успевает собрать и выпустить еще третью. Для точности моего наводящего и вспомогательного сравнения я прибавлю, что сборка и спуск этих выбрасываемых во время полета технически немыслимых новых машин является не добавочной и посторонней функцией летящего аэроплана, но составляет необходимейшую принадлежность и часть самого полета и обусловливает его возможность и безопасность в не меньшей степени, чем исправность руля или бесперебойность мотора.
Разумеется, только с большой натяжкой можно назвать развитием эту серию снарядов, конструирующихся на ходу и выпархивающих один из другого во имя сохранения цельности самого движения» (III, 232–233).
Марина Цветаева, Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов. М., 2004. С. 338.
Дмитрий Быков. Борис Пастернак. М., 2005.
Т. Gautier. Emaux et camees. М., 1989. С. 203.
А. М. Пятигорский. Избранные труды. М., 1996. С. 290. И еще: «Интересно – это то, что раздражает мысль, вашу, мою, вот здесь, сейчас, а не останавливает мышление, не дает мысли остаться в привычных клише историко-философских, лингвистических, культурно-исторических или каких угодно еще концепций или идеологических конструкций. Интересное склоняет слушающего, видящего или читающего к забвению его убеждений. (…) Интересное для меня то, что изменяет тенденцию мышления в отношении мыслимых им объектов: так объект А, только что мыслимый как А, сейчас мыслится как В. Но это не все! В «как интересно!» содержится тенденция мышления к движению не только от одного объекта к другому, но и к движению, пределом которого будет исчезновение из мышления всех его объектов – останутся одни «как»» (Александр Пятигорский. Мышление и наблюдение. Четыре лекции по обсервационной философии. Riga, 2002. C. 1–2).
М. Л. Гаспаров. Избранные статьи. М., 1995. С. 336–337.
Но и Гаспаров исходит из глубочайшего недоверия к слову. Так он комментирует два стихотворения Мандельштама с «античной тематикой»: ««Обиженно уходят на холмы…» – разворачивает образ исхода плебеев на Авентин – это темные, как скот, дикари, не желающие подчиняться римскому порядку (но и они в своем праве, и их беспорядок – священный; халдеи значит одновременно и «варвары» и «мудрецы»; (…) Бегущие овцы появлялись в стихах ОМ и раньше – в отрывке «Как овцы, жалкою толпой Бежали старцы Еврипида…» (…) – обобщенный образ, никакой конкретной трагедии Еврипида не соответствующий» (Осип Мандельштам. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 625). Но, может, дело совсем не в Еврипиде и какой-то бескровной обобщенности образа? Стих мотивирован языком и соответствует самому себе. Оба стихотворения – о море, вбирающем в свое «огромное колесо» и древность и современность. Поначалу бегущие волны сравниваются с овцами, за этим далеко ходить не надо, так как они зовутся «барашками». Они движутся беспорядочным скопом, то есть – «grex» (по латыни – «стадо, толпа»). Латинская пословица: Qualis rex, talis grex («Каков царь, таково стадо»). «Его произведения, – говорил Набоков о Гоголе, – как и всякая великая литература, – это феномен языка, а не идей». Таков в своем величии и Мандельштам. И там, где Гаспаров ищет высокую трагедию, – каламбур, подвох, тот анекдотический «скр», которого дознаться невозможно.
Так что сравнение «обращается», вращается вокруг волн – они бегут, как греки («старцы Еврипида»), как стадо овец, а можно и в обратном порядке: в приливах и отливах – кругооборот морской воды, дарующей очищающее погружение. Человек движется извилистой тропинкой к морю, вот-вот он поплывет и тогда пройдут обиды и печали – все смоет старческое и вечно-мальчишеское море:
Как овцы, жалкою толпой
Бежали старцы Еврипида.
Иду змеиною тропой,
И в сердце темная обида.
Но этот час уж недалек:
Я отряхну мои печали,
Как мальчик вечером песок
Вытряхивает из сандалий. (I, 99)
1914
Второе стихотворение, конечно, продиктовано первым. И потому необходимо помнить о стаде – «grex», о провидческой слепоте великого грека, чтобы воспринимать две половинки поэтического сравнения как равноправные (Гомер=море). Человеческая история подобна водной стихии, но и маринистическая картина вбирает в себя волновые свойства людских невзгод, она одушевлена войнами и градостроительством, является сама тем «золотым руном», за которым плавал мандельштамовский Одиссей (вопреки греческой мифологии) и возвратился «пространством и временем полный»:
Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебеи,
Старухи овцы – черные халдеи,
Исчадье ночи в капюшонах тьмы.
Их тысячи – передвигают все,
Как жердочки, мохнатые колени,
Трясутся и бегут в курчавой пене,
Как жеребья в огромном колесе.
Им нужен царь и черный Авентин,
Овечий Рим с его семью холмами,
Собачий лай, костер под небесами
И горький дым жилища и овин.
На них кустарник двинулся стеной,
И побежали воинов палатки,
Они идут в священном беспорядке.
Висит руно тяжелою волной. (I, 115–116)
[Они покорны чуткой слепоте.
Они – руно косноязычной ночи.
Им солнца нет! Слезящиеся очи —
Им зренье старца светит в темноте!] (I, 249)
Август 1915