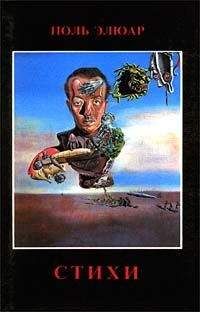«Рая нет, есть небытие», – возразил Френо как-то англичанину Дилану Томасу, мечтавшему «услышать музыку небесных сфер», а одна из сводных книг лирики Френо так и названа – «Рая нет» (1962). Нет ни позади, ни впереди, нет ни в небесах, ни на земле, где каждый из нас, неизменно и напрасно ожидая, что выпавшая ему на долю мимолетная радость окажется вечным блаженством, вынужден покрывать отпущенное ему расстояние от колыбели до могилы, так и не сподобившись полноты счастья и даже по-настоящему не узнав, «кто же владеет чем» из этих ускользающих даров жизни:
Кто и чем за оградою этой владеет?
Кому принадлежат расчлененные склоны горы,
терпеливые стены, желтые злаки, плоды на деревьях?
И разве твое это все: дом и сад,
водоем с драгоценной водою,
ребенок, играющий в мяч на лужайке?
Кто сможет их удержать,
эти стены, которые рушатся,
это наследство, что будет поделено,
эти колодцы, в которых иссякнет вода?
Кто угасшего рода прочтет имена
среди мха позабытых могил?
Ну, а скалы, а ветер, а смерть – чьи они?
Свобода от опеки свыше внушает Френо горделивое чувство самостоятельности: «Я человек, достойный жизни, – я отверг руку богов». И вместе с тем имеет для него и свою из нанку – усугубляя ощущение покинутости во вселенной, она вновь и вновь подсказывает этому «хозяину без владений» его сумрачные думы и слова «не-надежды». У Френо на разные лады перемежают друг друга благословения приютившему его земному дому, где довелось отведать свою толику хлеба гостеприимства, и жалобы на неизбывное изгнанничество; клятвы не отступиться от предписанного себе однажды правдоискательского долга – и плач об ущербной недолговечности смертных, обреченных «чистым нулем» истлеть в могильном безмолвии. Всех их снедают домогательства преодолеть, пусть на мгновение, заданный от века распорядок вещей, угрожающий им исчезновением, и припасть к жизнетворным родникам бурлящей где-то в потаенных глубинах мироздания вечной свежести. Но когда окрыляющая «встреча с чудом» вдруг происходит, она кратковременна и неминуемо влечет за собой растраву прощания: в утеху – и насмешку – недавнему счастливцу остается лишь пепел угасающих с каждым мигом воспоминаний. Всегдашний узник всемогущего небытия, затерянный где-то между меркнущим пережитым и манящим ожидаемым, он вынужден довольствоваться толь ко «смехотворными завоеваниями» – тленными крохами, вырванными у чересчур скупого к нему бытия. Столь частое у Френо уподобление жизни ветру настояно на горечи ничуть не меньше, чем на благодарности:
Жизнь сочинит на скорую руку
весеннюю грозу – и опять в путь-дорогу,
опять в путь-разлуку, и сто обещаний,
и все на ветер, и сто дерзаний,
и прах, горизонты чернее ночи,
и в путь, в путь, и снова светел
горизонт, и в дорогу, и жизнь, ветер –
жизнь очень ласковая, когда захочет.
Из спора с этим ветровым и выветривающим непостоянством Френо выходит не без потерь и срывов, когда он, посылая исступленные обвинения предательской текучести суще го, удрученно произносит приговор и самому себе: «Я – непереносим». Непереносим из-за немощи вовлеченной в лавину песчинки, вдвойне непереносим по причине невозможности длить вечно миги душевного блаженства.
Предрешенный конечный исход этой тяжбы личности с враждебными ей внутренними и внешними обстоятельствами отчасти искупают, однако, одержанные на иных ее отрезках победы. В короткие часы такого нелегко добытого торжества из груди Френо рвется возглас облегчения, доверия к себе и к жизни: «У меня больше нет страха перед радостью, я здесь для нее, слишком затянулось время, когда меня прельщала пустыня». Строки эти взяты из одной из элегий, служащих вступлением в книгу любовной лирики «Весь источник» (1952), – женщина, войдя в одинокое жилище Френо, рассеяла тревоги, отодвинула в тень злосчастье, заполнила своим присутствием все пустоты, открыла доступ к токам плодоносной чистоты. «У нее призвание радуги и росы». Когда руки сплетаются, когда дыхание двоих сливается воедино, когда «вместе с тобой мы – глубинный поток», замкнутость каждого в себе и отъединенность от мирового целого, кажется, исчезают навсегда. Возлюбленная для Френо – проводница туда, где «красота носит герб абсолютного», где родина всего живого и где он, горемыка дорог в никуда, сможет найти кров и очаг:
Навсегда…
Я о счастье на этот раз говорю.
Навсегда…
Два порыва сплелись,
чтобы выразить благостность мира.
Навсегда…
Колесо в постоянном движенье.
Навсегда…
Непокорная кровь обрела наконец-то гнездо.
И хотя для Френо это «навсегда» скорее тщетное заклинание, подтачиваемое догадками о подверженности страсти все тому же выветриванию, хотя ему трудно забыть, что дарованное ею блаженство вернее всего есть остановка, роздых и за приливом последует отлив, когда в мозгу опять застучит томительное: «Так где же любовь? Неужто в раю?», – тем не менее из памяти не изгладится мудрость, преподанная ему любовью: «Я получаю и даю, я даю – значит, я существую». Истина, постигнутая им в близости с женщиной, но верная – и тут, в философии любви, они с Элюаром соприкасаются – и применительно к гораздо более широкой общности, к братству всех страждущих и ищущих.
Моменты, когда «люди встречают братский прием в глазах людей», для Френо вообще знаменуют собой высшие взлеты и их отдельных скромных судеб, и их совместного непокорства Судьбе. Два эти пласта существования – тот, где изо дня в день посильно сопротивляются малым невзгодам, и тот, где из века в век протекает древняя, как само человечество, схватка с не удовлетворяющим людей творением, – у Френо не отделены пропастью, а смыкаются, образуя движущееся поле истории. Само слово «братство» в его устах отсылает не к некоей отвлеченной «соборности» или просто родству по крови, а вмещает в себя прежде всего те значения, которые вложены отечественной историей, прошлым французского народа, давним и совсем близким. Гражданское чувство этого дальнего потомка бургундских крестьян и парижанина по душевному выбору, даже в языке своей лирики нередко примешивающего к изысканно-книжным оборотам говор родных краев или уличное городское просторечие, полновесно, укоренено в житейской толще. Он слишком хорошо знает, как драгоценна затейливая греза ребенка и каким подвижничеством дается иному взрослому самый непритязательный достаток, чтобы оскорбить их лозунговой трескотней или вы сокомерно воспарить над мелочами обыденности как над суетой сует. Но именно потому, что он не чужак в вагоне подземки, битком набитом в будничное утро обитателями предместий, едущими на работу, для него не выдохлась крепость легенды в праздничной сутолоке на парижских мостовых вечером в годовщину взятия Бастилии: «Я пою урожай Республики и опьянение братством людей на улице, у скрещенья юношеских мечтаний и вздохов веков, на свидании памяти и обещаний… И когда – не сегодня ль? – из печей будет вы нут хлеб справедливости, мы разделим его меж собой, запивая вином на пиру у высоких столов. Я пью за радость народа, за право человека верить в радость хоть раз в году, во вспышку трехцветной радуги между ресниц тревоги, пью за хрупкое благоволение жизни, за иллюзию любви» («14 июля»).
Право поднять свою чару в разгар этого товарищеского застолья сегодняшних преемников тех, кто осаждал Бастилию, сажал деревья свободы под удалой уличный напев, дрался в рядах блузников на парижских баррикадах, при надлежит Френо в первую очередь потому, что в пору, когда над Францией после мая 1940 г. опустилась ночь поражения, он вместе с другими «готовил Рассвет». Бунтарские заве ты предков для него – живое достояние, и каждому поколению надлежит их воспринять и приумножить, иначе они обратятся в звук пустой: «Всегда есть штурмы, которые надо возобновлять, есть песни, которые надо петь хором, есть листва и знамена, которым нельзя дать замереть, дабы не было попрано право листвы и знамен трепетать на ветру».
Среди лириков Франции середины XX в. немного найдется таких, кто бы столь же настойчиво, как Френо, возвра щался в своих раздумьях к революционному прошлому. Конечно, непосредственный очевидец превратностей и потрясений нашего столетия, он далек от прекраснодушных обольщений историей, как давней, так и сегодняшней. Френо рисует ее себе не прямым восхождением, а бесконечной чередой подъемов и спусков. Но не менее далек он и от тех, кто обескуражен ее далями и почитает за благо во избежание подвохов вовсе не двигаться.