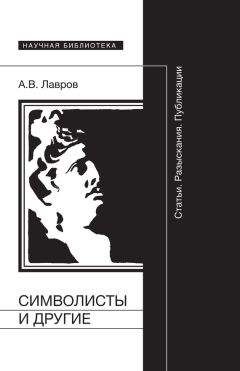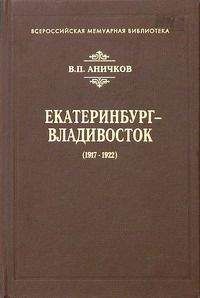Метафизическое содержание в корпусе текстов Коневского не просто преобладает – оно главенствует, подчиняя себе любые конкретно определенные творческие задания. Как отмечал в уже цитировавшихся заметках Н. М. Соколов, «отличие Ореуса от поэтов старого времени – Тютчева, Фета и др. – в том, что он сознал и провел чрез научно-философскую рефлексию свое художеств<енное> созерцание, усиленно развил в себе чувство “бездны” ‹…› и стремился поддерживать его в себе непрерывно ‹…› При этом он насильно вводил в пределы своей личности разные настроения и старался проникаться всякими ‹…› во имя расширения личности ‹…›».[83] Вбирая в себя «разные настроения», воспринятые благодаря освоению широчайшего круга литературных и иных источников, Коневской, однако, не выстраивал из них эклектическую совокупность, а неизменно пропускал сквозь реторту собственного «я». В своих стихах он, как справедливо подмечено, «создавал новый тип поэтического творчества, своеобразную “метапоэзию” – поэтическое философствование, в качестве главнейшего компонента включающее в себя “поэтическую рефлексию” о самой природе творчества на примере раскрывающего диалога с предшествующими поэтическими системами и образами».[84] Те же начала «метапоэзии» Коневской стремился уловить и осмыслить в стихах своих старших современников, о чем свидетельствует, например, его статья «Стихотворная лирика в современной России»; «метапоэтические», мировоззрительные критерии были для него исходными и главенствующими при вынесении собственных критических вердиктов. В своих оценках творческих достижений Фофанова, Минского, Мережковского и других мастеров Коневской старается сохранять безупречную объективность и толерантность – и вместе с тем он неизменно остается верен собственным критериям, собственному «я», которое для него не может не быть на первом плане. Разные поэтические лики, воссоздаваемые им в этой обзорной статье, обладают – при всей глубине и тонкости отдельных наблюдений – очевидным сходством между собой, и это не удивительно: все они – прежде всего феномены, рождаемые аналитическим сознанием автора. В представленной галерее литературных портретов, в характеристиках «чужих» стихов, в цитатах из них, влившихся в текст статьи, отображаются, как в зеркале, собственные стихи Коневского, насыщенные возвышенно-риторическими размышлениями и признаниями о разладах и противоречиях души, понимаемых и освящаемых как необходимая составляющая мировой динамической гармонии.
«Мировоззрение поэзии» – главное и едва ли не единственное, что привлекает внимание Коневского к поэзии вообще. Его статья о Н. Ф. Щербине, ярче всего выразившем себя как автор антологических стихотворений, вариаций на античные темы, а также как сатирик, юморист и эпиграмматист, озаглавлена «Мировоззрение поэзии Н. Ф. Щербины»; эстетические влечения и достижения поэта трактуются в ней как отблески целостного философского миропонимания, им самим, видимо, не осознанного и не обоснованного, но реконструированного его пытливым интерпретатором: «В кругозоре Щербины поэзия и пластика классической древности были наиболее совершенным образом такого мировоззрения, в котором – с одной стороны – вся стихийная вселенная представляется мирозданием, в самом полном смысле этого слова, целокупной красотой, необъятным живым существом, а с другой стороны – идеальные человеческие облики, все устроенные, отчетливые оболочки, изъявляют все необъятное величие внешнего мира. По этому мировоззрению – во всякой части есть целое, всё, бесконечность, и в бесконечности, во всем, в целом есть всякая часть».[85] Чей облик отчетливее проступает за этими предельно обобщенными аттестациями – Щербины или самого Коневского?
А. К. Толстой, творческая личность еще более широкого диапазона, чем у Щербины, опять же, близок Коневскому прежде всего «мировоззрительными» элементами, сосредоточенными наиболее интенсивно в драматической поэме «Дон Жуан». Прорицания Духов из этого произведения могли бы стать эпиграфом ко всей поэзии Коневского, аккумулируя в себе основной ее смысл и пафос:
Едино, цельно, неделимо,
Полно созданья своего,
Над ним и в нем невозмутимо,
Царит от века божество.
Осуществилося в нем ясно,
Чего постичь не мог никто:
Несогласимое согласно,
С грядущим прошлое слито,
Совместно творчество с покоем,
С невозмутимостью любовь,
И возникают вечным строем
Ее созданья вновь и вновь.[86]
Коневской приводит эти строки в философском этюде «Общие космологические основы моего мировоззрения» (октябрь 1896 г.).[87] В набросках аналитической статьи об А. К. Толстом (один из вариантов заглавия: «Поэзия Алексея Толстого – ее положение в ходе русской стихотворной мысли») он рассуждает о проявлениях индивидуализма у Толстого и о близости его метафизики к учению Платона, об отражении в его самосознании «любви мировой» и об иных отвлеченных материях: «…этот поэт полон борьбы за личность и неудовлетворенных порывов ее в состоянии несовершенном. Тем большей восполненности и удовлетворения достигает он в идеале. Его откровения сущности, божества, это – такие состояния, в которых нет больше желаний дальнейшего, будущего, иного неизвестного, полное безразличие, равнодушие воли, и в то же время – “творчество”, “пыл”, значит – развитие, значит – развитие, движение, открытие новых составов и форм».[88] Аналогичным образом интерпретируется поэтический облик Кольцова, в стихотворчестве которого Коневскому ближе и ценнее всего то, чем он в наименьшей мере запечатлелся в читательском сознании, – философские «думы»: «В Думах Кольцова кругозор степи развертывается вольным размахом в поднебесную ширь горизонта вечных тайн. ‹…› Под оглушительным дыханием вечного неведомого вихря его обуял трепет ужаса перед новыми исполинскими силами, которые ему угрожали, и ничтожеством своего человеческого тела, воли, мысли и чувства. Мироздание предстало перед ним как лютый враг и противник, как неведомое чудовище, как бездушная громада, которая оказывает на человека уничтожающее давление. И так лучше всего загорелся он мечтой самому померяться своими частными силами с сокрушительными могуществами мировых сил в незапамятных и нескончаемых их порядках и расположениях» («А. В. Кольцов (личная его природа и строй мыслей)», 1900).[89] Во всех подобных случаях эстетическая конкретика, позволяющая судить о «лица необщем выраженьи» каждой поэтической индивидуальности, не занимает Коневского сама по себе, она привлекает его внимание прежде всего открывающейся возможностью перенестись от нее в область универсальных понятий и абстрактных категорий, отображающихся в веренице возводимых им условных метафорических построений.
Среди русских авторов Коневского прежде всего влекут к себе, разумеется, те поэты, для которых философская проблематика составляет основу и главный внутренний смысл творчества. Самое почитаемое имя – Тютчев: анализом его поэтического мировидения открывается статья Коневского «Мистическое чувство в русской лирике» (1900). Наряду с Пушкиным Тютчев осмысляется в ней как «первоначальный русский поэт», отважившийся погрузиться в «бездну» – «бытие безначальное и бесконечное» – и тем самым постичь и передать глубочайшие тайны ищущего духа: «Тютчев ощущал вечность движения, движение вечности, то есть вечность, переходящую из точки в точку и из мига в миг, вечность, сущую в пространстве и во времени. Его прозрящее созерцание мироздания не разрешилось ни во что иное, как в это зияющее из века в век внутреннее противомыслие».[90] В очередной раз нам предоставляется возможность убедиться, как, погружаясь в Тютчева, Коневской познает самого себя. Н. К. Гудзий, исследовавший влияние Тютчева на поэзию конца XIX – начала XX века, пришел к выводу, что из ранних русских символистов наиболее органически связан с ним был именно Коневской;[91] он указывает на очевидные заимствования тютчевских тем, образов и фразеологии в стихотворении «Природа»:
И вдруг кругом меня всё тишь святая,
Как суша, все незыблемо стоит,
И, красотой бесстрастною блистая,
Из недр своих природа жизнь струит,
и т. д. (С. 176), –
обнаруживающем аналогии со стихотворением Тютчева «Певучесть есть в морских волнах…»; усматривает вариацию тютчевского «Полдня»:
Лениво дышит полдень мглистый,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.
И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф спокойно дремлет –
в стихотворении Коневского «Душный час»: