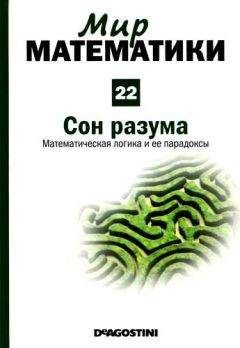Некоторые называли нас отцами-основателями. Первое собрание состоялось в одном из кафе Латинского квартала Парижа, на углу бульвара Сен-Мишель и улицы, ведущей к Пантеону. Как я уже говорил, мы хотели написать учебник, который стал бы эталоном на ближайшие 20—30 лет. Вскоре мы решили, что привести на обложке имена всех авторов этого коллективного труда будет неуместно. Тогда мы решили сыграть одну шутку, знакомую некоторым из нас еще по Нормальной школе: один из учеников надел фальшивую бороду и, притворившись иностранным профессором с невероятным акцентом, прочел первокурсникам бессмысленную лекцию, которая окончилась теоремой Бурбаки.
Бурбаки был малоизвестным наполеоновским генералом, который, несмотря на многообещающее начало карьеры во время Крымской войны, потерпел сокрушительное поражение от прусских войск и попытался покончить с собой. Мы решили: Бурбаки будет нашим псевдонимом! Осталось придумать ему биографию. Мы решили назвать его Николя и приписать ему польдевское происхождение. Это была еще одна студенческая шутка — как-то студенты начали кампанию в поддержку вымышленной страны Польдевии, настолько бедной, что даже у ее премьер-министра не было денег на одежду. При помощи Эли Картана, отца нашего товарища, мы опубликовали статью за подписью Николя Бурбаки в журнале Академии наук. Намного позже к нам явился некий потомок генерала, утверждавший, что он полностью восстановил генеалогическое дерево своего семейства и не обнаружил в нем ни одного математика!
ЛЕВИ-СТРОСС: Как от скромной задачи написать учебник вы пришли к идее объединить всю математику?
ВЕЙЛЬ: По мере работы над книгой мы поняли: чтобы заложить надежную основу дифференциального и интегрального исчисления, требовалось пересмотреть все основные понятия математики, начиная с простейших. Наши предшественники довольствовались бы тем, что изложили в нескольких главах весь необходимый материал, но для того чтобы достичь невообразимых высот математики нашего времени, нескольких глав было недостаточно. Отмечу, что математика в достаточной мере подчиняется тезису Томаса Куна о структуре научных революций. В период с конца XIX до первой трети XX века произошла смена парадигмы: в это время возникли теория множеств Кантора, общая топология Хаусдорфа, алгебраическая топология Пуанкаре и Лефшеца, появились Гильбертовы пространства и современная алгебра, создателями которой можно назвать Нётер, Артина и ван дер Вардена.
18
Все новые теории зарождаются одинаково: все начинается с анализа множества примеров, которые рассматриваются независимо друг от друга, а затем некто, подобно первым натуралистам, классифицирует эти примеры на основе наиболее заметных схожих черт. Только в ходе подробного исследования проявляются скрытые свойства, причем некоторые из них становятся очевидными далеко не сразу. Конечной целью Бурбаки в итоге стал поиск основных составляющих всей математики.
ЛЕВИ-СТРОСС: ...чтобы наступил этап, который Кун называл «нормальной наукой».
ВЕЙЛЬ: Труднее всего было организовать работу. Сперва мы регулярно встречались в парижских кафе, но вскоре этих встреч стало не хватать, и мы решили провести вместе две недели летних каникул в каком-нибудь приятном месте, чтобы вывести математику на свежий воздух.
Первый симпозиум состоялся в 1935 году в местечке Бессе в Оверни, где располагалось несколько корпусов Клермонского университета. Следующая встреча должна была пройти в Эскориале, но нам помешала гражданская война в Испании. В итоге мы собрались в доме семейства Шевалле в Шанже, однако встреча по-прежнему называлась Эскориальским симпозиумом.
К каждой встрече члены группы готовили доклады на различные темы, которые позднее должны были войти в книгу. На встречах мы читали эти доклады, составляли планы отдельных томов и связывали различные главы с теми, что уже были опубликованы или только готовились к публикации. Затем начиналась редактура. Мы постановили, что книгу можно будет считать законченной только тогда, когда за это единогласно проголосуют все члены группы. Порой одна и та же рукопись переписывалась бесчисленное множество раз, и на работу ушло более пяти лет, поскольку всегда находился кто-то недовольный результатом. Я и сегодня не могу поверить, что в 1939 году мы завершили работу над сорокастраничной брошюркой, где излагались основы наивной теории множеств, и даже нашли издателя.
ЛЕВИ-СТРОСС: А почему вы назвали теорию множеств «наивной»? Очередная шутка?
ВЕЙЛЬ: Разумеется. Девиз, под которым группа Бурбаки начала свой труд по унификации математики, звучал так: «поставить аксиоматический метод на службу идеологии структур». Об идеологии структур мы поговорим чуть позже.
Если говорить о методе, то мы решили использовать в качестве основы теорию множеств, которая, несмотря на парадоксы, обнаруженные в ней в начале века, в то время пребывала в добром здравии. Следовательно, первый шаг на пути к формализации математики состоял в том, чтобы подробно описать все обозначения и синтаксис теории множеств.
Эта задача была посложнее любого из подвигов Геракла — перед нами был пример Рассела и Уайтхеда, которые работали над «Началами математики» десять лет подряд по 12 часов в день. Таким образом, если бы мы ввели достаточное количество аббревиатур и новых правил синтаксиса, то получили бы намного более практичный язык. Он не был бы формальным в строгом смысле этого слова, но был бы достаточно близок к формальным языкам, чтобы обладать идеальной четкостью. Именно в этом и заключалась «наивность» нашей теории множеств — разновидности стенографической записи идеального языка, не содержащего ни единого пробела.
Вскоре мы забросили формализованную математику, но во всех работах неизменно оставляли своего рода путеводные знаки, чтобы при необходимости вернуться к ней. Следует понимать, насколько мы были увлечены строгими обозначениями, не оставлявшими места риторике. В нашем линейном повествовании запрещались любые отсылки к другим источникам, и в результате вещественные числа впервые объяснялись на трехтысячной странице.
ЛЕВИ-СТРОСС: Не противоречат ли этому исторические заметки, согласно которым Бурбаки имел обыкновение начинать каждую книгу «с чистого листа»?
ВЕЙЛЬ: Это другое. Обратите внимание, что название нашего трактата, «Начала математики», было выбрано не случайно. С одной стороны, мы понимаем математику как единое целое, с другой — сложно не заметить отсылку к «Началам» Евклида. Мы, подобно Евклиду, хотели создать труд, который не потерял бы актуальность на протяжении двух тысяч лет, а достичь этой цели можно было только при одном условии — обеспечив абсолютную полноту книги. Представьте, что люди будущего обнаружат одну из математических статей. В ней будет множество отсылок к другим текстам, многие из которых, скорее всего, окажутся утерянными, и сколь бы интересной ни была наша статья, в конечном итоге она оказалась бы бесполезной. «Начать с чистого листа» не означает отрицать существование математики до нас, ведь геометрия существовала и до Евклида. Напротив: наш трактат, подобно труду Евклида, должен был содержать все знания, известные на тот момент.
Но при упорядочении старых материалов часто обнаруживаются другие, новые.
Должен признаться, что добавить исторические заметки в конец каждого тома предложил я. Позвольте рассказать, почему я принял такое решение. Когда я поступил в Нормальную школу, оказалось, что научная библиотека работала по очень неудобному расписанию. Директор, устав выслушивать мои жалобы, назначил меня помощником библиотекаря. Я мог работать в библиотеке в любое время суток — от меня требовалось лишь минимальное присутствие на рабочем месте. Именно в библиотеке Нормальной школы я прочел труд Бернхарда Римана — в свое время я выучил немецкий, чтобы понимать, о чем говорят родители, когда хотят сохранить что-то в секрете от меня с сестрой. Прочтя труд Римана, я еще больше укрепился в мысли, которая пришла мне в голову после знакомства с трудами древних греков: во всей истории человечества важны лишь гении, а единственный способ познакомиться с ними — это прочесть их произведения. С тех пор я неизменно считал, что при изучении истории математики основное место следует отводить прочтению классических трудов, а не запоминанию никому не интересных дат.
ЛЕВИ-СТРОСС: Раз мы заговорили о великих математиках прошлого, я не могу не спросить вот о чем: вас не беспокоило, что их труды отличались меньшей строгостью и четкостью, чем ваши?
ВЕЙЛЬ: Вы правы, это была одна из самых больших опасностей. Допускаю, что мы не всегда умели держать дистанцию. Мне повезло: историю математики мне преподавал Макс Деи, один из двух человек в моей жизни, кто заставил меня думать о Сократе. Этот удивительный преподаватель считал, что математика — лишь одно из множества зеркал, в которых отражается истина (возможно, четче, чем в остальных). Он организовал во Франкфуртском университете семинар, где планировал читать великие труды с точки зрения их авторов, не требуя от математиков прошлого того, чего позволял достичь лишь современный формализм. Этим же путем я проследовал при работе над книгой об истории теории чисел: я изобразил математиков за работой, чтобы читатель смог понять, как мыслили мудрецы разных эпох, начиная от вавилонян эпохи Хаммурапи, записавших пифагоровы тройки на табличке Плимптон, и заканчивая Лежандром и его «Опытом теории чисел».