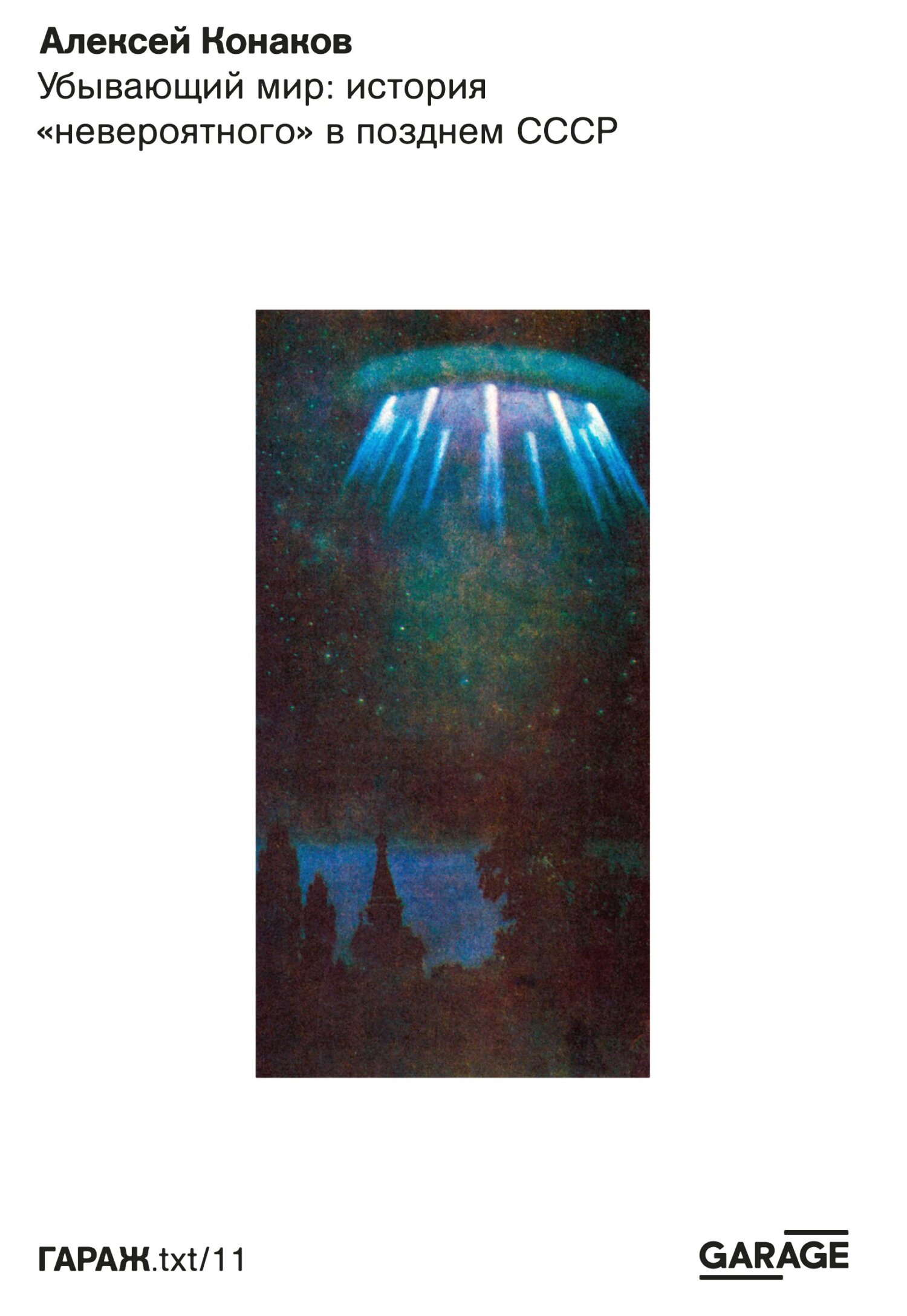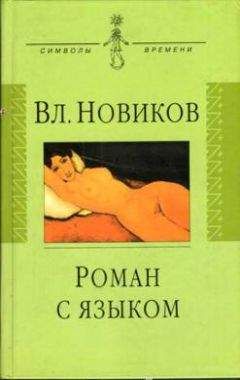href="ch2-172.xhtml#id732" class="a">[172]. По мнению Кардашева, вместо поисков цивилизаций I типа, похожих на земную цивилизацию и способных передавать только узконаправленный сигнал, гораздо перспективней искать цивилизации II и III типов, которые должны излучать широкополосный радиосигнал сразу во все стороны. Отличать искусственный радиосигнал от естественного можно благодаря 1) малому угловому размеру источника, 2) переменному во времени излучению и 3) особой форме спектра [173]. Лучшими кандидатами в искусственные радиоисточники Кардашев считает недавно открытые объекты СТА-21 и СТА-102 в созвездии Пегаса, как раз имеющие малые размеры и подходящий спектр [174]. Сразу после бюраканского совещания по просьбе Кардашева астрофизик Геннадий Шоломицкий исследует СТА-21 и СТА-102 – и источник СТА-102
действительно оказывается переменным. Известие об этом, опубликованное ТАСС, сразу же становится мировой сенсацией – многие уверены, что обнаружен сигнал от внеземной цивилизации; в ГАИШ собирается пресс-конференция с участием иностранных журналистов, на которой астрофизики разъясняют, что:
речь идет всего лишь о гипотезе, что обнаружение переменности СТА-102 само по себе не является доказательством его искусственного происхождения (хотя и может рассматриваться как аргумент в пользу гипотезы Кардашева) [175].
В итоге искусственность сигнала от СТА-102 не подтвердится, однако целый ряд советских ученых продолжает поиск внеземных цивилизаций («проект АУ» [176]). В Научно-исследовательском радиофизическом институте (НИРФИ) в городе Горьком ведутся работы под руководством астрофизика Всеволода Троицкого (сторонника поиска узкополосных сигналов от цивилизаций первого, земного типа, для чего в НИРФИ изготавливают специальные спектроанализаторы); работающие в ГАИШ Шкловский, Кардашев и Лев Гиндилис рассчитывают на скорейшее использование огромного нового радиотелескопа, проект которого утвержден в 1965 году [177]. При поддержке академика Льва Арцимовича вся эта проблематика получает институциональное оформление – в конце 1964 года в рамках Совета по радиоастрономии АН СССР создана Секция «Поиски сигналов от внеземных цивилизаций», председателем которой становится Троицкий (а секретарем – Гиндилис) [178]. Почти сразу Секция начинает готовить уже международный симпозиум по одноименной проблеме; именно тогда появляется знаменитая аббревиатура CETI (Communication with Extraterrestrial Intelligence), предложенная одним из организаторов, чехословацким астрономом Рудольфом Пешеком [179].
Дискуссии о программе CETI, ведущиеся профессорами и академиками, представляют собой наиболее респектабельную часть советского «невероятного», однако даже и здесь хватает радикальных идей и удивительных гипотез. Это, прежде всего, критика «слишком земного» понимания «жизни» как «способа существования белковых тел» – ведь в космосе «при встрече с чуждой нам жизнью мы просто можем “не узнать” ее» [180]. Отсюда следуют две возможности: так, Иосиф Шкловский, опираясь на кибернетические работы Андрея Колмогорова и Алексея Ляпунова («управление, понимаемое в широком, кибернетическом смысле, является самым характерным свойством жизни безотносительно к ее конкретным формам» [181]), призывает искать «функциональное определение жизни»; Кронид Любарский, наоборот, пытается вообразить «конкретные формы», не связанные с углеродом, – низкотемпературную аммиачную жизнь и высокотемпературную кремниевую жизнь [182]. Другой проблемой является язык, на котором земляне могли бы говорить с инопланетянами; в Бюракане о необходимости разработки «общей теории языка» и «космической лингвистики» рассуждает математик Алексей Гладкий [183]; знают в СССР и про линкос (lingua cosmica) – особый формульный язык, разработанный в 1960 году голландским математиком Хансом Фройденталем для общения с инопланетянами. Одной из самых необычных идей, связанных с линкосом, является его возможная проверка на дельфинах, о чем сообщает советская пресса (дискуссии о дельфинах инспирированы книгой Джона Лилли «Человек и дельфин», вышедшей в 1961 году [184]; ученые, работающие над проблемой CETI, даже учреждают особый «Орден дельфинов», советскими членами которого будут Шкловский, Троицкий и Кардашев [185]). Наконец, в середине шестидесятых активно спорят об антивеществе (из которого, как считают, может быть создана половина видимых в небе звезд) и о целых «антимирах» (с 1965 года в Театре на Таганке с успехом идет одноименный спектакль по стихам Андрея Вознесенского: «Но, как воздушные шары, / над ним горят Антимиры» [186]); в 1964 году советский физик Густав Наан выдвигает идею «симметричной Вселенной», состоящей из миров, где отрицательным может быть не только вещество, но и пространство, и время [187]; двумя годами позже глава Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе, академик Борис Константинов делает доклад, в котором предлагает рассматривать Тунгусский метеорит как сгусток антивещества, прилетевший из космоса [188] (в поисках экспериментальных данных, способных подтвердить такую гипотезу, Константинов обратит внимание на Алексея Золотова, продолжающего экспедиции на Тунгуску для исследования остаточной радиоактивности деревьев, и станет его научным руководителем [189]).
Все вместе это складывается в довольно противоречивую картину: почему Шкловскому можно ссылаться на теории Агреста в книге «Вселенная, жизнь, разум», а Вячеславу Зайцеву в своих докладах нельзя? почему гипотеза Казанцева о Тунгусском метеорите по-прежнему подвергается критике, а гипотеза Константинова – нет? почему рассуждения о внеземных цивилизациях скорее приветствуются, а рассуждения о летающих тарелках запрещаются?
Что перед нами – сиюминутные решения или какой-то особый подход?
Дело, кажется, в том, что хотя советское государство заинтересовано в оптимизме своих граждан, сам этот оптимизм не может быть полностью независимым, автономным. Теории палеовизита и шум вокруг летающих тарелок показывают, что господствующий нарратив о покорении космоса и о научно-техническом прогрессе легко отклоняется то в сторону «библейских мифов», то в сторону «дешевых сенсаций» – и потому должен контролироваться. В эпоху торжественного шествия кибернетики, когда в СССР собирались научно управлять и космическими кораблями [190], и государственной экономикой [191], и человеческим здоровьем [192], совершенно необходимым оказывалось еще и особое управление оптимизмом. Методы этого управления полностью соответствуют кибернетической парадигме – минимальные воздействия, «обратная связь»: неудобные исследования грамотно купируются (как в случае «причинной механики» Николая Козырева, на разработку которой не выделяют средств), сбившихся с курса лекторов (вроде Феликса Зигеля) вежливо, но твердо поправляют коллеги, а особо ретивым фантазерам (а-ля Юрий Фомин) «посылают сигналы» через центральную печать.
Однако, говоря о советском «управлении оптимизмом», необходимо понимать природу этого оптимизма. Как указывает Азиф Сиддики, связанный с покорением звезд оптимизм был прямым следствием секретности, окружающей космическую программу СССР:
Секретность пронизывала каждый отдельный аспект советской космической программы. В начале шестидесятых эта программа была настолько засекречена, что казалась всемогущей, не имеющей ограничений. Чем меньше было известно, тем большее представлялось возможным [193].
С одной стороны, секретность была обусловлена военным генезисом космонавтики, важным оборонным значением ракетных пусков; с другой стороны, секретность позволяла эффективно поддерживать оптимизм населения, представляя советское покорение космоса как череду блестящих успехов: – в прессе появлялись сообщения только об удачных полетах, о неудачах же не рассказывалось [194]. Однако само изобилие строго засекреченных (космических и военных) пусков