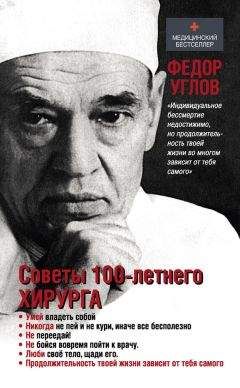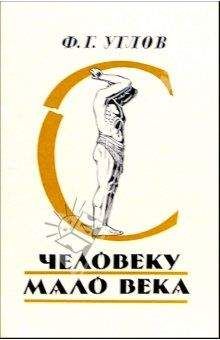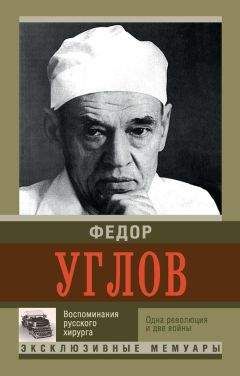— Тебе штиблеты и модные штаны папа, наверное, купил, — ответил я. — А мне только тяжелый физический труд на речном сплаве дает возможность учиться зимой. Кроме того, там, среди рабочих, я никогда не забываю, что я — комсомолец.
— Кто за то, чтобы исключить Углова из комсомола? — словно не слыша меня, сказал Гросс. — Мотивировка: за игнорирование святых требований мирового революционного движения.
Сейчас, читая про это, кто-нибудь, вероятно, улыбнется: за такое обвинение и сразу исключить? Мне же тогда было совсем не до смеха: можно было остаться за дверями университета, и понадобилось бы много времени, чтобы доказать свою правоту... Гросс со своими единомышленниками и рассчитывал на подобное. Лишь вмешательство партийного секретаря Ивана Васильевича Соснина помешало ретивым «активистам» расправиться со мною и другими комсомольцами. К слову сказать, впоследствии эти крикуны были решительно осуждены коммунистами и комсомольцами университета и изгнаны из вуза.
А на четвертом курсе произошло памятное до сих пор, приятное событие — поездка группы отличников учебы в Ленинград. Нас было тридцать человек, и целый месяц провели мы в путешествии: две недели ушло на дорогу, другие две были отданы знаменитому городу на Неве. Он восхитил нас своей красотой, строгостью, и, уже тогда, еще не зная, что долгие годы буду жить здесь, я навсегда был покорен широкими проспектами, каменными набережными, удивительными мостами. Тут во всем ощущалась русская история! Сенатская площадь, Петропавловская крепость, Смольный, Зимний... Был январь, город как бы плавал в синей дымке, нежданная оттепель убрала с улиц весь снег — лужи, лужи! Мы прыгали через них в разбухших от сырости сибирских валенках, лишь развевались полы наших солдатских шинелей и овчинных полушубков, и было такое чувство, будто мы внезапно встретились с весной. Это весеннее настроение мы увозили с собой в заснеженный Иркутск. Уже тогда, еще бессознательно, я попытался породнить их в самом себе — мою Сибирь и Ленинград.
В поезде нам было не скучно: песни, шутки, забавные рассказы, споры, разраставшаяся день ото дня «Дорожная поэма» моего сокурсника и тезки Феди Талызина, в которой смешно изображался каждый из нас. Слушали Федю, хватаясь за животы, подсказывали ему удачные рифмы... В своей молодости, в светлых надеждах на будущее были мы пьяны без вина. Когда сейчас вижу, как порой студенты, хорошие, умные ребята, собравшись вместе, почему-то заводят разговор о покупке спиртного, словно бы без этого немыслим отдых, мне становится грустно. Тяга к бутылке, желание непременно иметь ее в походном рюкзаке прежде всего замечается у молодых людей, предрасположенных к преждевременному постарению, а также с неустойчивой нервной системой, приученной к постоянному взбадриванию. А это уже не врожденное, наследственное, это от безволия — да простится мне такое слово — от распущенности.
И вот мы в Иркутске. Днями позже я, как ответственный за поездку, делал о ней отчет на заседании университетского профкома. Во время выступления вдруг почувствовал, что смещаются лица, предметы, стены, сам я будто бы проваливаюсь куда-то... Еле-еле доплелся домой, рухнул в постель и... очнулся только через двадцать четыре дня. Сыпной тиф!
После болезни ходил, как призрак: слабый, истощенный, ветер с ног валил, и не успел прийти в себя — новая напасть! Стали выявляться признаки пиемии, то есть заражения крови, в различных частях тела возникли гнойники, по нескольку дней кряду держалась высокая температура. Вскроют гнойник — температура выравнивается, но спустя какое-то время обнаруживается новый.
Опять операция, и после нее временное облегчение. При очередном высоком подъеме температуры, сопровождавшемся тягостными головными болями, профессор Николаева заподозрила воспаление среднего уха. Потребовался перевод в другую клинику, но никакого транспорта не было, и товарищи по факультету несли меня на носилках с одного конца города на другой...
Изможденный вконец, я приговаривался к страшному испытанию: нужно было долбить долотом мостовидный отросток моего черепа, искать там гной. По сей день не забыл чудовищную боль во время той операции. Когда хирург ударял по долоту, мне казалось, что он с размаху бьет молотком прямо по голове. Терпел на пределе, стиснув зубы и, продержавшись несколько минут, просил: «Дайте отдохнуть!..» А потом — снова удар, удар, удар... Операция была сделана вовремя. Запоздай она, мог бы случиться прорыв гноя в мозг. Но, увы! — для меня тяжкие испытания на этом не кончились. Я должен был перенести еще две сложные операции и бесчисленное количество перевязок. И здесь мне хочется остановиться на важном вопросе хирургической практики, на необходимости щадящего отношения к больному.
Наверное, потому, что мне самому пришлось испытать сильнейшие боли, сам мучился, находясь на операционном столе, я всегда сочувствовал больным, переживал за них, всю свою хирургическую работу старался проводить так, чтобы до минимума свести её травматичность, болезненность. Совсем безболезненных операций почти не бывает, однако сделать их терпимыми, легче переносимыми — это в возможностях врача, это должно быть его обязанностью, долгом.
Я, например, делаю прокол грудной клетки иглой в пятнадцать — двадцать сантиметров ребенку пяти-шести лет, ослабленному затянувшимся недугом, ввожу ему в абсцесс легкого раствор антибиотика, и ребенок в этот момент сидит спокойно, разговаривает со мной, даже улыбается. На следующий день он не боится идти в перевязочную, без слез и страха садится на стол для очередной пункции... Рассказываю об этом, естественно, не хвастовства ради, а чтобы убедить: даже такую, сравнительно травматичную манипуляцию, как прокол грудной клетки, можно проводить безболезненно. Было б лишь сострадание в тебе и умение, доведенное до совершенства.
А ведь часто бывает, что боязнь боли, однажды испытанной человеком при лечении, останавливает его в другой раз своевременно обратиться к врачу. «Как вы запустили свою болезнь, — нередко приходилось говорить мне, — почему не пришли раньше?» — и слышал в ответ: «Врач тогда сделал мне так больно, что я решил: лучше умру, чем снова сюда, в больницу...»
Больной всегда чувствует, понимает: вот без этой боли невозможно было обойтись, а это — от плохих, неумелых или недобрых рук врача... «Теперь терпите — будет больно!» — говорит врач больному, тем самым расписываясь в своем неумении работать. Ведь сейчас в нашем распоряжении богатейший комплекс различных обезболивающих средств.
«Подумаешь, потерпеть не можете — нежности какие!» — заявляет другой. Этот даже не стесняется своего неумения, он нападает на больного, ничуть не озабоченный своей слабой профессиональной подготовкой.
«Повышенная чувствительность», «истеричность», — так иногда врачи определяют состояние своих пациентов, которые не могут терпеть боли. Спрашивается: а почему они должны ее терпеть? Только потому, что врач не захотел потратить несколько минут на обезболивание? И когда мы говорим: «добрые, нежные руки», или, наоборот, «грубые руки», — мы понимаем, что дело тут вовсе не в самих руках — руки выполняют волю сердца! Грубые руки у врача — это прежде всего грубое, не знающее сострадания сердце.
Ко мне как-то пришла больная со слезами на глазах и сказала, что нет сил терпеть грубость лечащего врача. Проводя ей бронхографию, он кричал на нее, ругался, не выбирая выражений, заставлял как можно больше высунуть язык, а у нее это никак не получалось, и он схватил ее за язык своими жесткими сильными пальцами так, что поранил корень языка о зубы.
Я посмотрел — на нижней поверхности языка у женщины действительно зияла большая рана. Отпустив больную, вызвал врача и заявил ему, что работать с ним не смогу, пусть подает заявление об уходе... И всегда, когда становился свидетелем жестокого или равнодушного отношения к больным со стороны своих учеников или подчиненных, я был беспощаден к ним, И, раздумывая над тем, почему же среди врачей (в частности, хирургов) встречаются люди с грубыми руками и холодным сердцем, я выделил три причины:
1. Врач может быть беззлобным по натуре, даже добрым в каких-то житейских ситуациях, но у него самого отменное здоровье, он никогда ничем серьезно не болел и попросту не знает, что такое боль. Но это не значит, что врачу обязательно нужно пострадать самому, чтобы понимать боль других. Тысячи гуманных врачей никогда не испытывали на себе печальной участи своих пациентов, однако бережно, с пониманием обращаются с больными.
2. Врач может быть хирургом с такими неподготовленными для профессии руками, про которые в народе говорят: «Руки, как крюки!» Не умея делать все хорошо и легко, он мало заботится о состоянии больного во время операции. Хоть как-нибудь получилось бы — о безболезненности и думать не приходится! Такие врачи напрасно пошли в хирургию, им следует как можно скорее менять специальность.