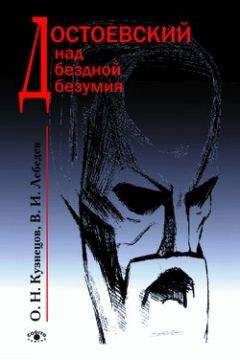Кто должен был написать эти стихи – мечтатель Картузов или «скандалист» Лебядкин?
Попробуем проанализировать, почему Достоевский передал авторство этих стихов, пронизанных саркастической горечью и отрицанием красоты в обществе, «полном мухоедства», от блаженного Картузова шуту-пьянице, доносчику, шантажисту, приживале и сутенеру Лебядкину.
На наш взгляд, Картузов в начальном варианте разработки его образа, как человек порядочный и добрый, не органичен. Наивность, донкихотство психологически не объясняют злого, уничтожающего сарказма почти дьявольского отрицания бессмысленности действительности, проступающего за кажущейся нелепостью стихотворных строк. Принадлежность же авторства этих стихов Лебядкину Достоевский глубоко и психологически точно обосновал содержанием романа. Лебядкин «...стихотворения свои уважал и ценил безмерно», единственным слушателем для него, оценкой которого он дорожил, был Ставрогин. Ему нравилось, когда Ставрогин «...веселился его стишками и хохотал над ними, иногда схватываясь за бока» (10; 210). Хохот Ставрогина оттачивал злобный сарказм Лебядкина. Ставрогину, всегда стремившемуся ощутить предел зла, но не обладавшему для этого достаточной эмоциональностью, ряд аффективно-образных ассоциаций стихотворений Лебядкина, отрицающих и издевательских, доставлял эстетическое наслаждение.
Лебядкин как бы применяет мысль Ставрогина («Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла» – 10; 209) к своим псевдостихам, которые «противостоят здравому смыслу», забывая, что, по «теории» Ставрогина, они могут принадлежать как великому человеку, так и дураку. И. Л. Альми очень точно отмечает: «...Хам и холуй Лебядкин в то же время поэт – не только по внешнему факту писания стихов. В нем бродит беспокойная закваска, эмоциональный избыток (сильно мешающий плутовской карьере)».[60]
Отличие Картузова как мечтателя от Лебядкина можно увидеть, сопоставляя разницу смыслового содержания, вложенного в их стихи («красота, красота сломала член и интересней вдове стала. И вновь сделался влюблен. Влюбленный уже не мало»). Если Картузов готов к самопожертвованию ради любимой им несчастной девушки, то Лебядкин нечестен и даже меркантилен. Он Ставрогину так объясняет происхождение своих стихов: «Фантазия... бред, но бред поэта. Однажды был поражен при встрече с наездницей и задал материальный вопрос: «Что бы тогда было? (то есть в случае, если бы она сломала ногу. – Авт.) Дело ясное... все женихи прочь, морген фри, нос утри, один поэт остался верен с раздавленным в груди сердцем... даже вошь, и та могла бы бытъ влюблена, и той не запрещено законом...» (10; 210).
В этом «творческом бреде» из-под шутовской маски проглядывает напряженная злобность и недоброжелательность, направленная не просто к случайно встретившейся амазонке, а именно к Лизе, от которой он не только «брачных и законных наслаждений» (10; 106) желает, но и материальных выгод. Лебядкин тайно злорадствует, что Ставрогин (единственный, кто способен пренебречь нафантазированным им уродством) устранен из соперников женитьбой на его полоумной и хромоногой сестре.
Таким образом, мечтательность может перерасти в злобность, как это случилось у «подпольного» парадоксалиста и у Лебядкина. Богатство фантазии погубило и Голядкина. Оказывается, совсем безобидная мечтательность, даже при талантливости мечтающего, может изолировать его от общества или превратить в человеконенавистника. Степень болезненности у героев Достоевского в значительной мере связана с отношением личности к обществу: альтруизм приводит даже самого безудержного мечтателя к обществу, эгоизм же изолирует человека и делает его мизантропом.
Все эти беспрестанно повторяющиеся шуты, вся эта невероятная вереница Лебедевых, Карамазовых, Иволгиных, Снегиревых составляют более фантастический род человеческий, чем тот, которым населена «Ночная стража Рембрандта».
Марсель Пруст
Общеизвестно, что алкоголизм – психическая болезнь, входящая в группу наркомании, связанное с ним пьянство совсем ему не тождественно. И хотя психиатрические критерии перехода пьянства в алкоголизм достаточно конкретны (сверхценность мыслей о выпивке, увеличение дозы алкоголя и появление синдрома похмелья), термин «алкоголик» часто используется крайне произвольно. С одной стороны, страдающие тяжелым алкоголизмом (когда уже снижается переносимость к выпитому) не считаются больными. С другой – ярлык «алкоголика» иногда необоснованно навешивается на человека, случайно обратившего на себя внимание единичным, но тяжело протекающим опьянением. В общественном сознании именно для алкоголизма грань между здоровьем и болезнью крайне размыта и субъективна.
Достоевский не прошел мимо порочной потребности людей, на заработанные деньги покупающих неизлечимое иногда безумие. Для многих его героев (например, капитана Лебядкина) пьянство – существенная сторона их образа жизни. Задумав роман «Пьяненькие», Достоевский вместо него создал «Преступление и наказание», великий роман о больной совести, где муки совести пьяницы Мармеладова оттеняют трагедию души Раскольникова. Достоевского, как и нас, возмущало общество, где «чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка... т. е. по-теперешнему, народное пьянство и народный разврат, – стало быть, вся народная будущность... Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод» (21; 94). Он страдал, видя, что сегодняшнее величие окупается разрушением будущего человека. Нездорово то общество, «где, случись так, что люди, все, одновременно бросили бы
пить, государству пришлось бы заставить их пить силой. Иначе – финансовый крах». Больно то общество, где «государство живет одним днем, не думая о будущем народа». Он не мог без страдания видеть отравленными корни народной силы и говорил об этом как публицист во весь голос.
От замысла романа «Пьяненькие» остались тезис «Оттого мы пьем, что дела нет», антитезис «Врешь ты, – оттого, что нравственности нет», и объединяющая их мысль, над которой нам стоит задуматься: «Да и нравственности нет оттого – дела долго (150 лет) не было» (7; 5).
Если у французского писателя Э. Золя в романе «Западня» кровельщик Купо и его жена, прачка Жервеза, пьют оттого, что потеряли возможность работать, то пьянство героев Достоевского всегда связано с нравственными проблемами. Немногие из его героев способны реализовать свои потенциальные возможности, найти свое место в жизни, поскольку зачастую действительность не соответствует высоте их замыслов. И тогда начинается пьянство. Или мечта, или пьянство – дилемма, решавшаяся мечтателем Достоевского в пользу мечты, – Лебядкиным решается иначе. Как пьянство, так и его стихи типичны для его «подполья». Потерянная совесть при этом прячется за ширму опьянения. Недаром он как о необходимом источнике вдохновения говорит «о старой боевой бутылке, воспетой Денисом Давыдовым» (10; 142). Тут же «зловещий волк, ежеминутно подливающий и ожидающий конца» (собутыльник Липутин, использующий пьяного стихотворца в скандальных происшествиях).
Как приживала и соучастник безнравственных поступков своего господина, Ставрогина, Лебядкин научился прятаться за маской пьяного шутовства. Благо пьяному нечего стыдиться: можно даже шантажировать своего господина, превратив его в «дойную корову». Будучи пьяным, он еще сохраняет псевдообаяние, а протрезвляясь, становится злобным, безжалостным, «в том тяжелом, грузном, дымном состоянии человека, вдруг проснувшегося после многочисленных дней запоя» (10; 37).
Во многом похоже на состояние Лебядкина пьянство Лебедева (роман «Идиот»), присасывающегося к власть и деньги имущим. Он и с Лихачевым Алексашкой ездил после смерти его родителей. И в первый же день знакомства с Рогожиным Лебедев в его пьяной свите, «не отстававший от него как тень и уже сильно пьяный...» (8; 96). Вечером в этой же пьяной компании, у Настасьи Филипповны, «один только Лебедев был из числа наиболее ободренных и убежденных и выступал почти рядом с Рогожиным, постигал, что в самом деле значит миллион четыреста тысяч чистыми деньгами и сто тысяч теперь, сейчас же, в руках...» (8; 135).
Но достаточно деньгам оказаться в горящем камине, он, не переставая кривляться и ползать на коленях пред Настасьей Филипповной, вопит: «Матушка! Королева! Всемогущая!.. Милостивая! Повели мне в камин...» (8; 145). И в тот же вечер пьяным голосом он прохрипел «ура!», услышав о полученном князем Мышкиным наследстве. Став своего рода опекуном-наперсником князя, он так кривлялся при гостях Мышкина, что по-детски реагирующая генеральша Епанчина усомнилась: «Он сумасшедший?.. Пьяный, может быть?» И прибавила, обращаясь к князю: «некрасивая же твоя компания...» (8; 202). В действительности же Лебедев, ползая перед Мышкиным и уверяя его в своей преданности, одновременно участвовал в написании пасквиля, направленного на оспаривание права князя на наследствование. Слова и дела, ложь и правда – все у Лебедева вместе и «совершенно искренне» в опьянении. Вся ложь его в «адской мысли» – как бы и тут «уловить человека, как бы через слезы раскаяния выиграть!» (8; 269).