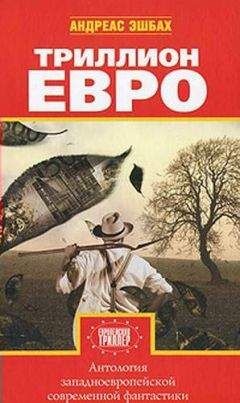«Дело устроилось, – говорил он, – только бы ничто мне не помешало достигнуть цели, то есть быть умерщвленным. Правду сказать – это вы меня беспокоите; я боюсь, как бы ваша привязанность ко мне не послужила препятствием. Вы ведь ничем не рискуете, а я могу потерять благодать Божию, если вы меня спасете. Другого такого случая мне никогда не представится, и если вы сделаете мне одолжение и не вмешаетесь, то это будет с вашей стороны добрым делом. Если вы промолчите, то я буду принадлежать Богу; а если вы пожалеете мою плоть, то мне придется вновь участвовать в мирской суете. Ах, как я хотел бы успокоиться в Боге! Вы никогда никому не делали вреда, зачем же хотите начать теперь с меня?
Дайте мне накормить своим телом диких зверей – я буду радоваться и о Господе. Я есмь пшеница Божия и должен быть смолот звериными зубами для того, чтобы стать хлебом Иисуса Христа. Позаботьтесь скорее о зверях, чтобы они ничего от моей плоти не оставили и были моей могилой, так, чтобы и похороны никому ничего не стоили.
Надеюсь, что они будут достаточно голодны; в случае надобности я их побью, чтобы они тотчас же меня растерзали и не поступили со мной как с некоторыми другими, которых боятся тронуть. Не захотят, так я их заставлю.
Пусть огонь и крест, нападение стаи зверей, изуродование членов, все демонские казни обрушатся на меня… я все вынесу, лишь бы радоваться о Христе Иисусе».
Рядом с этим посланием в наше время можно поставить только следующую песнь умирающей нигилистки, которая вызвала слезы на глазах даже ее судей и палачей.
«Слышите, судьи, приговаривайте меня скорее; преступление мое велико и ужасно! Одетая в простое ситцевое платье, без башмаков, я пошла туда, где стонут наши братья, где царствуют вечный труд и вечный голод. Зачем ваши фразы и речи? Разве я не сознаюсь в своем преступлении? Смотрите – на мне и теперь еще крестьянское платье, ноги мои босы, руки – в мозолях, я истомилась от работы. Но величайшей уликой против меня служит моя любовь к родине. Как бы я ни была виновна, однако же вы, судьи, вы бессильны против меня. Да, всякое наказание бессильно против меня, потому что я имею веру, которой вы не имеете, – веру в окончательную победу моих идей. Вы можете посадить меня в тюрьму на всю жизнь, но моя болезнь, как видите, сократит наказание. Я умру с сердцем, переполненным любовью, и сами палачи будут плакать и молиться у изголовья моего смертного одра».
Шестьдесят лет спустя после смерти Игнатия Смирнского характерная фраза из его послания: «Я есмь пшеница Божия» сделалась лозунгом церкви; и ее повторяли для того, чтобы поддержать дух мучеников. Равным образом песнь умирающей нигилистки и теперь воспламеняет русских страдальцев.
Влиянием страсти объясняется факт, недостаточно отмеченный историей и состоящий в том, что всякое восстание, всякая революция сопровождается особым гимном, возбуждающее действие которого не оправдывается иногда достоинством слов и музыки. Так, в 1769 году появились «Çaira» и «Марсельеза»; в 1831 году – «Sufigli d’Italia»; в 1849 году – «Fratelli d'Italia»; в 1860 году – гимн Гарибальди: «Siscopron le tombe», а в последнее время «Pioupious d'Auvergne» и «En revenant de la revue», распространяемые для подготовки буланжистского движения. Наконец, анархисты в Чикаго распевают «Песнь бродят и бунтовщиков».
От древней жизни осталась нам знаменитая марсельеза афинского народа – «Scolion», сочиненная Каллистратом в честь убийц Гиппия{31}.
«Я буду носить нож под миртовой веткой, как Гармодий и Аристогитон, когда они убили тирана и возвратили Афинам свободу.
О Гармодий! Говорят, ты не умер, а живешь на островах блаженства вместе с быстроногим Ахиллом и Диомедом, сыном Тидеевым.
Я буду носить нож под миртовой веткой, как Гармодий и Аристогитон, когда они на афинских торжествах убили тирана Гиппарха.
Ваша слава, о Гармодий и Аристогитон, никогда не потухнет на земле, потому что вы убили тирана и возвратили Афинам свободу».
В царствование Иакова II весьма плохие стихи Томаса Уортона оказывали такое влияние на публику, что этот бесталанный поэт хвастался потом, что он один изгнал короля.
Пение, которым у первобытных народов сопровождалась всякая работа, всякое действие в силу атавизма, и теперь служит необходимой принадлежностью всякого общественного движения, в котором участвует страсть. Но оно не только сопровождает эти движения, а может и породить их, так же как цвета знамен, крики, исступленные жесты, которые, иногда будучи совершенно бессмысленными, возбуждают массу и направляют ее к какой-нибудь заранее намеченной цели.
Песня благодаря своей неопределенности может отвечать всяким стремлениям толпы и связывать последнюю в одно целое. Она играет роль тотализатора, сводящего к одному общему чувству разнообразные стремления отдельных лиц, так что может быть одновременно и причиной, и следствием общего брожения.
Такое брожение часто вызывается добрыми чувствами, но в дальнейшем своем течении, особенно во время бунтов, оно часто становится и несправедливым, и не соответствующим цели, которая его вызвала. Это, разумеется, вполне естественно, так как страсть опирается не на разум, а на чувство, которое всегда сильно.
Один и тот же народ, находясь под влиянием страсти, может разражаться взрывами жестокого бунта из-за пустяков, а затем оставаться апатичным, несмотря на очень важные причины для восстания. Так, во время Парижской Коммуны удовольствие насолить буржуазии делало героями таких людей, которые апатично относились и к иностранному нашествию, и к диким погромам черни.
Подражание, как при Коле ди Риенци, и голод, как во времена Мазаниелло ив 1759 году, могут усилить или ослабить влияние страсти, особенно когда она только что начинает действовать.
Французы, проявившие такую энергию в 1789 году, оставались апатичными в 1815 году; энтузиазм, охвативший итальянцев в 1848 году, ослаб в 1859 и еще более к 1866 году. Что значили Фикуцца и Ментана в сравнении с первыми подвигами Тысячи?{32} А между тем и народ, и вождь, и деятели, и обстоятельства остались почти те же самые.
В Древней Византии бунты возникали по самым пустячным причинам, иногда просто из-за прибавки или опущения какой-либо фразы в молитвах. В 658 году до P. X. одна такая прибавка, сделанная каким-то епископом, погубила империю Анастасия. В некоторых церквах ее приняли и пели, а в других ей свистали. Император счел долгом вмешаться и наказать насильников, но был за это низложен патриархом. Началось вооруженное восстание, предводительствуемое монахами, призывавшими народ к битве, к страданиям за правду. Другой бунт возник из-за вопроса о том, действительно ли на кресте умерла одна из ипостасей Св. Троицы. При этом был убит один монах, друг Анастасия, сожжены дома еретиков, и сам император спасся, только отдав своих министров диким зверям на растерзание. А между тем в то же самое время гунны опустошали Фракию и убили 65 тысяч христиан в окрестностях Византии.
Между прочим, при Анастасии и Юстиниане в Византии тянулась нескончаемая борьба между партиями синих и зеленых, возникшая по поводу разногласия в вопросе о наездницах цирка и служившая причиной целого ряда возмутительных преступлений, массовых убийств и бунтов, колебавших даже императорский трон.
Вообще бунты чаще обусловливаются низкими и жестокими страстями, а революции – благородными и возвышенными.
12) Эндемическое и эпидемическое сумасшествие. Подмеченная нами связь между тотальностью, неврозами и сумасшествием уже a priori заставляет предполагать их совместное проявление в массах, причем эволюция является одновременно и причиной, и следствием усиленного нервного напряжения. В другом месте я доказал, что семьи, богатые сумасшедшими, изобилуют также и гениальными людьми. Весьма естественно, что это правило подтверждается и на целых народностях.
Бед, например, доказал, что в на Соединенных Штатах неврастения распространена эндемически, почему весьма многие там не переносят ни сильного шума, ни сильных запахов, ни спиртных и вообще возбуждающих напитков (кофе, чая, какао), которые, однако же, очень любят. Поэтому же, то есть благодаря неврастении, сопровождающей цивилизацию, Европатак сильно терпит теперь от алкоголизма. В самом деле, дикие и негры также пьянствуют, но алкоголиками не делаются, так же как не делаются и морфиноманами, несмотря на потребление морфия, а в то же время и сумасшедших среди них очень мало. В северных штатах, отличающихся особой любовью к новшествам, гораздо больше сумасшедших, чем в южных, население которых консервативнее. Сумасшествие принимает там даже эпидемический характер, выражающийся в появлении странных сект вроде перфекционистов, лаятелей, шейкеров и прочих.