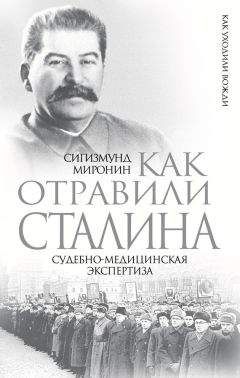Я распорядился перевести больного в нашу клинику и срочно провести ему специальное исследование.
Надо было ввести контрастное вещество в аорту, с тем чтобы оттуда оно попало в сосуды, снабжающие кровью мозг. И в этот момент произвести серию снимков.
На рентгеновских снимках оказалось, что левая внутренняя сонная артерия, питающая левую половину мозга, закупорена полностью. Это значит, что очень скоро гемипарез перейдет в полный паралич. Есть ли надежда восстановить проходимость сосуда, а тем самым питание мозга, можно сказать лишь во время операции, которая сама по себе представляла большой риск.
Надо было вскрывать сосуд, питающий мозг. А если не удастся восстановить его проходимость? А если наступит разрыв сосуда и его надо перевязать? А если начнётся большое кровотечение, которое не удастся остановить?
Я знаю по прежнему опыту, как опасно иметь дело с сосудами на шее! Ведь если из-за возникшего кровотечения придётся перевязать сосуд, питающий мозг, то в большинстве случаев наступает смерть. А к этому надо быть всегда готовым. Более того. Если для работы на сосуде мне придётся его пережать даже временно, то и это уже большой риск, ибо если пережатие продлится более 3–4 минут, то наступит кислородное голодание и гибель мозга с тем же печальным исходом. Наконец, больной столь ослаблен, что может не перенести такую операцию! А как я выйду из операционной, как буду смотреть в глаза отцу, жене, его друзьям? Не лучше ли отказаться от такой рискованной операции, которой я ещё не делал, хотя давно уже и готовился к ней?!
Все эти сомнения я изложил перед Пантелеймоном Константиновичем и членами семьи Юрия. Видя совершенно безнадёжное состояние больного, они сразу же согласились на операцию.
Я решил делать её тотчас же, вечером, не дожидаясь утра, так как каждый час тут мог иметь решающее значение. Когда я вышел из палаты, где лежал Юрий, за мной следом вышла Галя.
— Фёдор Григорьевич, — сказала она со слезами на глазах, — сделайте так, чтобы Юрий остался жив. Если он умрет, я также не буду жить. Ведь в его болезни виновата прежде всего я, и этого я себе никогда не прощу.
Надо сказать, что, как только обнаружилось у Юрия столь серьёзное заболевание, Галя не находила себе места от тяжёлых переживаний, беспокойства за судьбу мужа и постоянных упрёков себе, что она своими глупыми ревнивыми подозрениями подливала масла в огонь, который сознательно разводили недруги Юрия.
Уже с первых жалоб его на головные боли, которые — она это хорошо видела — он тщательно скрывал, она вдруг сразу испугалась за него и как будто другими глазами посмотрела на всё, что делается вокруг.
Увлечённый своей работой, ничего не подозревая, он старался оправдываться, «вины не зная за собой» и чувствуя, что его оправдания оказываются шаткими перед хорошо подтасованными «фактами», нервничал, тяжело переживал своё бессилие.
Когда Галя увидела, что муж уже почти разбит параличом, что к этому всё идёт, что над ним нависла смертельная опасность, чувство собственной вины стало мучить её.
Тяжело переживал болезнь своего любимого ученика и руководитель кафедры, слишком поздно понявший всю несложную механику хорошо задуманной травли молодого учёного. Со всех сторон нам звонили, обращались лично, прося сделать всё возможное для спасения молодого учёного, сына, мужа, отца маленьких детей!
Но нас не надо было ни о чём просить. Мы и без этого принимали все меры к тому, чтобы спасти Юрия.
Очень сложно было определить место поражения сосуда, вызвавшего паралич. Процесс мог быть внутри черепа. И тогда наше хирургическое вмешательство было бы бессмысленно. Хорошо, что у Юрия была выявлена закупорка внутренней сонной артерии, и это давало какую-то надежду. Но что за процесс в сосуде? Может быть, полное заращение просвета сосуда, как мы говорим, его облитерация, и тогда мы бессильны помочь больному. Если же окажется артериосклеротическая бляшка, прикрывающая просвет, тогда есть надежда, что мы её удалим и восстановим проходимость сосуда.
Но тут мог быть и тромб, закупоривающий сосуд и уходящий глубоко в полость черепа. И тогда все будет зависеть от того, удастся ли извлечь тромб из сосуда. Словом, была сотня различных ситуаций, в каждой из них Юрия подстерегала смертельная опасность, а меня полная неудача.
Мне предстояла одна из тех операций, которые тяжело отзываются на моем собственном состоянии. Несколько часов я буду стоять у стола и испытывать сильнейшее нервное напряжение. В случае благополучного исхода меня ждёт много беспокойных дней и бессонных ночей послеоперационного периода. В случае неудачи… Ещё более изнурительные часы, когда вся нервная система будет напряжена до предела. А умри больной? Нередко бывает так: вначале просят, умоляют, на любой риск согласны, а умрет больной, и разговаривать с хирургом не хотят, а кто грозит, заявление пишет. Всё ведь бывало в жизни.
Так не лучше ли сказать, что я этих операций не делаю, что я не хочу рисковать, и выписать больного?
Читатель, конечно, скажет: «Что вы, как можно? Ради человека надо идти на риск».
А многие ли из вас, дорогой читатель, ради человека идут на риск? Не чаще ли мы встречаем такое отношение — лучше я уклонюсь, зато мне спокойнее будет.
Очень многие и уж слишком часто и у нас употребляют слово «нет», хотя оно нередко означает бегство с поля боя.
Было бы очень хорошо, если бы каждый на своём посту отвечал бы за слово «нет» ещё больше, чем за слово «да». Тогда бы у нас реже наблюдались случаи бездушия, бюрократизма, невнимательного отношения к человеку. Тогда бы и вышестоящим организациям меньше пришлось бы разбирать жалоб и решать вопросов.
Итак, операция!..
Вскрыв участок шеи, я обнаружил артериосклеротическую бляшку. Она полностью закрывала просвет сосуда, питающего мозг. От бляшки вверх по сосуду шёл тромб длиной в 12 сантиметров. И он тянулся до внутримозговых разветвлений сосуда. Бляшку убрали сравнительно быстро, но тромб… Длинный, рыхлый, он всё время грозил разорваться. Я тянул его и чувствовал, как лицо моё заливает потом.
И когда вытянул, сразу же восстановилось нормальное кровоснабжение мозга…
После операции больной проснулся быстро. Когда он совсем пришёл в себя, первое, на что обратил наше внимание, — это перестала болеть голова. Речь значительно улучшилась. Заторможенные движения стали более активными. Сознание прояснилось. Постоянный туман и какая-то завеса, которая появлялась перед глазами, исчезли. Зрение стало чётким.
Юрий быстро поправлялся. Через десять дней мы разрешили ему ходить, а через три недели он выписался из клиники. Отдохнув несколько недель сначала дома, а затем уехав вместе с Галей в санаторий, Юрий вернулся в институт полноценным работником.
2
После того как Юрий Рылев выписался из клиники, я долго думал о нём и других больных, которые были поставлены на грань катастрофы не каким-то несчастным случаем, не болезнью от каких-то микробов, не от врождённых недостатков. Нет. Их болезнь так же, как тяжёлое состояние на грани инфаркта у профессора Гафили, есть результат действий других людей, в том числе таких, которые назывались друзьями, добрыми знакомыми.
Я вообще высоко ценю крепкую дружбу, особенно если эта дружба основана на общих жизненных целях, на родстве высоких благородных помыслов. К сожалению, и среди мужчин, даже очень уважаемых, встречается немало людей, преследующих в дружбе только свои, эгоистические цели. Такие люди ненадёжны, на них не стоит и рассчитывать. Они вас не предавали, не делали вам зла, но они и помнят о вас лишь в тех случаях, когда вы им нужны. При этом они сами по себе могут быть и неплохими людьми, но у них, по-видимому, превратное понятие о дружбе.
У меня есть хороший знакомый, инженер, с которым мы встречаемся хоть и редко, но с удовольствием. Это большой специалист в своём деле, эрудированный человек, приятный собеседник. Но он может многие месяцы не звонить. А если позвонит, значит, я ему понадобился. То у него «маленькую пневмонию» обнаружили — надо посоветоваться и подлечиться, то какие-то непорядки в почках нашли — надо бы провериться, то дочку надо проконсультировать.
Встретимся, подлечимся, проверимся, и вновь на много месяцев приятель и голоса не подаёт.
А тут как-то вернулся в город из длительного путешествия и звонит. Спрашивает о здоровье, о том, как провёл лето, рассказывает о том, где был и что делал это лето. Разговор идёт долго, и никаких намёков на необходимость подлечиться, посоветоваться. «Вот, — думаю я, — вспомнил обо мне! Соскучился и звонит, чтобы поговорить». Только я этак подумал, а он «под занавес» и говорит: «А вы помните название лекарства для лечения моей поясницы? Когда мы этим займёмся?!» У меня так всё и оборвалось. Вот ведь как, даже один раз не выдержал! Я, конечно, и виду не подал. Назначил время, удобное для нас обоих.