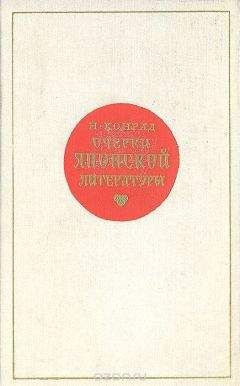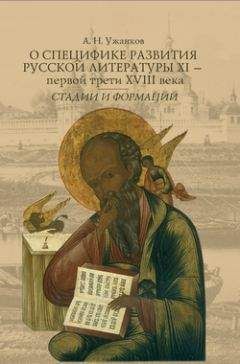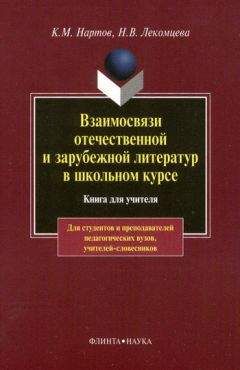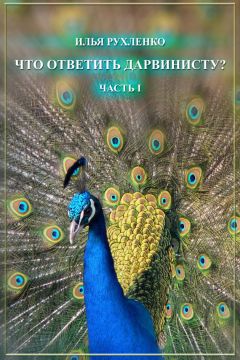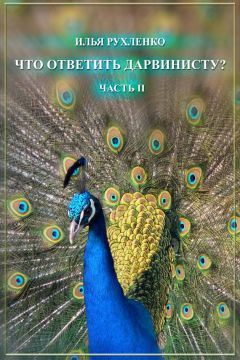Этот сон не оставляет с тех пор юношу в покое: он думает о нем и днем и ночью, пока наконец в одну прекрасную ночь не слышит за оградой своего дома легкие шаги; встает, выходит на галерею, присматривается: видит две женских фигуры, из которых одна освещает дорогу шелковым фонарем. Это она — девушка из сновидений, в сопровождении своей служанки. Они проникают к нему, и их любовь, начатая во сне, возобновляется с новой силой. С тех пор мерцающий огонек шелкового фонаря каждую ночь появляется около сада молодого самурая.
Скоро окружающие замечают, что юноша начинает худеть и бледнеть. В то же время по округе начинают ходить толки, что к молодому господину по ночам ходит какое-то привидение с пионовым фонарем — подойдет к дому и сразу исчезнет. Старик учитель со слугою решаются подстеречь и действительно замечают эту таинственную посетительницу. Не зная, что предпринять, они бегут за советом к мудрому буддийскому монаху, настоятелю одного храма, хорошо знавшему еще отца юноши. Тот открывает им, что Синдзабуро (так зовут юношу) пал жертвой судьбы: все, что он видел во сне, действительно было в предшествующем его существовании, и вот не удовлетворенная тогда любовь преследует его и в новом существовании. Он об этом уже давно догадывался, видя, как со старой могилы убитой тогда девушки, похороненной в давние времена на кладбище при его храме, еженощно исчезает повешенный там песколько веков назад кем-то странный фонарь в форме пиона. Настоятель добавляет, что Синдзабуро на краю гибели,— эта любовь его может увлечь в тот мир,— и что нужно принять меры: порасклеить на всех входах в их дом заклинательные таблички, препятствующие проникновению в дом привидений, и убедить Синдзабуро в течение семи последующих ночей до утра громко читать заклинания.
Старик учитель возвращается домой, и ему удается сделать так, как сказал настоятель.
Наступает седьмая ночь. Учитель проверяет, на местах ли все таблички, и уходит. Синдзабуро читает заклинания. И вдруг слышится за оградой нежный голос, горько упрекающий его в забвении. Синдзабуро сначала не хочет слушать, но слова девушки врываются ему в самое сердце. Он встает, подходит к ограде и собственной рукой снимает заклинательные таблички. Раздается радостное восклицание девушки, и они скрываются во внутренних покоях.
Учитель со слугой тем временем не спят, беспокоясь о том, как пройдет эта последняя ночь. Наконец они не выдерживают и решают выйти наружу последить. Обходя вокруг дома, подходят к ограде и видят: заклинательных табличек нет. В ужасе подбегают к дому и останавливаются как вкопанные: прозрачная бумага окна освещена изнутри светом шелкового фонарика, и на ней — два слившихся силуэта: один — Синдзабуро, другой, прильнувший к пему,— скелет. Вбегают внутрь, а там все кончено: юпо- ша — мертв.
В последние годы этот сюжет, один из самых любимых среди ему подобных, был инсценирован известным писателем Нагата Хидэо для театра. Пьеса «Пионовый фонарь» обошла все сцены Японии и повсюду заставляла зрителя трепетать и волноваться за судьбу несчастного Синдзабуро.
Если авторы описательно-исторических, авантюрных и фантастических романов и пьес пользуются историческими материалами без претензий на какую-пибудь особую целевую установку, стремятся главным образом создать занимательное для читателя по сюжету произведение, то ряд других писателей поступает иначе: они берут эту историю либо в целях выявления вечного, общечеловеческого, заключающегося в каком-либо эпизоде прошлого, либо в целях его иронической переоценки, либо в целях, так сказать, поучения, с тем чтобы, показав какой-нибудь кусочек прошлого, как бы сказать: «Имеющий уши слышать да слышит».
Предо мною два произведения, оба принадлежащие двум очень известным сейчас писателям: «Вишенка» — пьеса Курато Момодзб и «Птица милосердия» — роман Кйкути Кан. Оба они могут служить лучшим примером именно того, как исторический сюжет берется современным писателем, с тем чтобы показать заключающееся в пем актуальное и для современности, более того — «вечное» зерно.
В древней японской поэтической антологии «Манъёпо» (VIII в.) в качестве объяснительного предисловия к двум стихотворениям приводится простенький и наивный рассказ, настолько коротенький, что я его привожу целиком.
В древние времена жила одна молодая девушка. Прозывали ее Вишенкой. В это же время жили двое юношей, и оба они сватали эту девушку. Готовы были жизнью своею пожертвовать — так добивались они ее друг перед другом; готовы были на смерть пойти — так спорили они друг с другом. И девушка из-за этого очень горевала.
Не слыхивали еще ни разу со старых времен, чтобы одна девушка шла замуж за двоих. Сердца же юношей умиротворить трудно. Ничего не остается, как умереть, и тогда их спор навсегда прекратится! Сказав так, она пошла в лес, повесилась на дереве и умерла. Оба юноши печалились нестерпимо. И каждый из них, раскрывая все свое сердце, сложил по песне.
Первый:
«Прядет весна, украшу
Я волосы себе цветком вишневым!» —
Думал я, и вот
Цветок осыпался, нет более
Вишни здесь со мной...
Второй:
«Лишь только расцветает
Вишни цвет, что имя дал
Моей подруге милой,--
Будет вечная весна,
Вечная любовь у нас»,— я думал...
Таков этот простенький сюжет.
Он был любимым еще в старой Японии: уже в X веке мы находим целый рассказ, основанный на этом материале, впрочем, уже несколько более развитый, так сказать, с концом: юноши, сложив стихотворения, кончают с собой, следуя за нею в тот мир. Современный автор Курата строит на его основе целую двухактную пьесу, где все действие отвлекается от времени и места, дастся в неопределенной исторической и бытовой обстановке, так что получается произведение чисто символическое, проникнутое очень тонким и своеобразным мистицизмом. Из всего предания выделено именно самое зерно — любовь двух к одной при равной склонности ее к обоим, и именно оно взято в плане вечного, «общечеловеческого», подано в символической оболочке.
Очевидно, такая концепция достаточно актуальна для современной Японии, если за ото же предание берется крупнейший прозаик наших дней Кикути Кан. Он поступает иначе: он вводит такую концепцию в конкретную обстановку японской современности, делает Вишенку барышней из богатой буржуазной семьи, двух юношей — одного судебным следователем, другого — промышленным деятелем. Осложняет сюжет введением дополнительного мотива — случайной склонности ее к одному из героев, приводящей к их браку, и строит все дальнейшее изложение на последующем конфликте между любовью восторжествовавшей и любовью отвергнутой.
Любопытно отметить, что Кикути следует второй версии этого сюжета, то есть с трагическим для обоих мужчин концом, только в соответствии с менее романтическими правами и условиями современности делает этот конец по иному обоснованию. Интересно также своеобразие композиционного приема автора: первая глава романа переносит читателя в древние времена, рисует обстановку и пересказывает современным языком и с широко развитым сюжетом, мотивированной психологической характеристикой всю эту старую легенду о Вишенке. И когда вся эта печальная повесть рассказана, Кикути говорит: «Все это случилось когда-то; все это случалось и после; случается и теперь. И я хочу показать, как это случается теперь».
Нужно попутно сказать, что этот роман Кикути настолько понравился японскому читателю, что был немедленно обработан для кино. Фильм «Птица милосердия» не сходил с японских экранов в течение всей минувшей осени. Я его видел и должен сказать, что достаточно сентиментальный и примитивный роман Кикути с экрана прозвучал такой убедительной мелодрамой, что восторги массового японского зрителя были совершенно понятны.
Такой показ старины в аспекте «вечного, общечеловеческого» большей частью в явно идеалистическом пиане у некоторых авторов заменяется показом определенно пародическим, иногда достигающим степени самой ядовитой иронии.
Пример такой иронической пародии, да еще в самой безудержной, граничащей с озорством форме, дает Аку- тагава в одном из своих исторических рассказов. Здесь такому пародированию подвергается наиболее блестящая по культуре, окруженная долгим историческим преклонением полоса жизни японского парода, так называемый Хэйан- ский период (IX—XII вв.), век аристократической цивилизации, японский галантный век; век утонченных кавалеров и изящных дам. Акутагава воспроизводит обстановку одного из произведений той эпохи — «Исэ-моногатари», где некий кавалер невероятно влюблен в одну из таких дам. К его прискорбию, в силу различных обстоятельств, его любовь не может завершиться успешным концом, п кавалеру ничего не остается делать, как постараться всеми силами эту любовь из своего сердца вырвать. Он действует и так и этак, но ничего не получается, любовь по-прежнему пылает в его душе. Тогда он решается на героическое и уже, несомненно, действенное средство: он решается пробраться тайком в дом к своей даме рано утром, увидеть ее в таком виде, который для тогдашних утонченных сердец был совершенно непереносим и мог разом убить какую угодно пылкую любовь. Акутагава доводит своего героя до самых дверей в спальню его дамы. И тут заставляет его столкнуться с выходящей оттуда служанкой, выносящей... сосуд, нужный в спальне по ночам. Кавалер в восторге: ои напал на такое свидетельство о его даме, которое должно сразу же начисто изгнать ее облик из его сердца. Вне себя он вырывает из рук ошеломленной служанки роковой сосуд, закрытый, как полагается, крышкой, и бегом бросается домой. Едва придя к себе, он, чтобы окончательно и бесповоротно убить в себе всякую мысль о даме, решается даже... этот сосуд открыть. Открывает крышку и видит, что полагается видеть: желтоватую жидкость с плавающим среди нее коричневым предметом... Он хочет добить свою любовь до самого конца и решается па самое героическое: хочет ощутить запах... Нагибается и вдруг чувствует: из сосуда подымается какое-то тонкое благоухание: там в ароматическом масле плавал кусок душистой индийской смолы. И вышло, что, вместо изничтожения, любовь вспыхнула снова с неудержимой силой. Бедный кавалер!