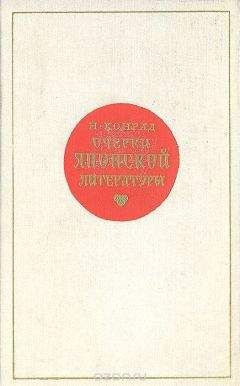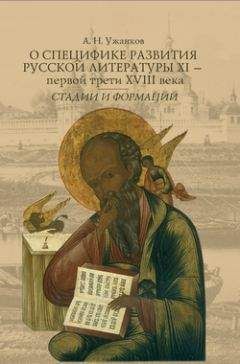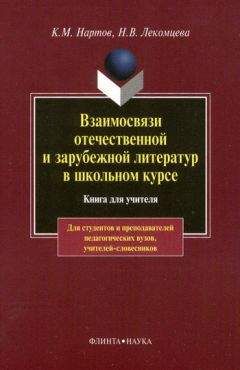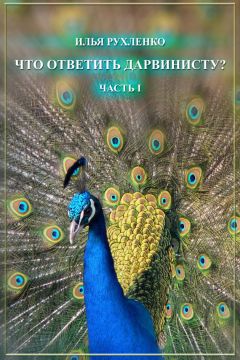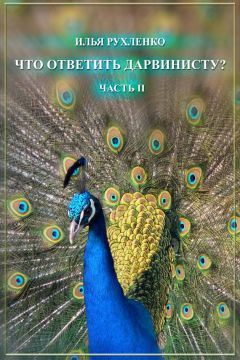Подобно тому, как это наблюдается и по исторической линии японской художественной литературы, и здесь ряд авторов особенными целями не задаются; они довольствуются лишь рассказом о том, как «оно было», лишь добросовестным описанием. Это течение порождает главным образом реалистический роман или пьесу, конечно, разной художественной ценности. При этом одни гонятся за занимательностью сюжета, другие довольствуются занимательностью самого привлеченного материала; третьи вообще о занимательности не думают, считая художественное выявление всякого материала ценным и важным. Иначе говоря, здесь мы встречаем и отзвуки авантюрного романа, и сентиментальные новеллы, и лирическую повесть; тут же рядом и натуралистическую беллетристику.
В плане именно такого бесхитростного показа быта японского «Нижнего города» работает вышеупомянутый Кубота. Вот схема его рассказа «Перед праздником Бон» из указанного сборника.
«Бон» или «Урабон» — праздник в Японии происхождения, может быть, синтоистического, но с течением времени получивший определенно буддийскую окраску. Приходится он на лето, средину июля, занимает три дня п представляет собою одно из самых популярных, оживленных народных празднеств в Японии. Оп совпадает или, вернее, сопровождается отпуском, получаемым от своих хозяев всем людом наемного труда: ремесленниками, приказчиками всяких рангов, мастеровыми и т. п. Это — дни, когда широкие народные массы в Японии, от крестьян до мелкой буржуазии, знают только одно: отдых и празднества. Один лишь Новый год может в этом смысле сравниться с праздником Бон.
Праздник Бон, собственно говоря, «праздник мертвых». Но это отнюдь не «поминовение усопших», сопряженное с горестными воспоминаниями о них, печальное и скорбное, наоборот: радостпое переживание общения с ними. В эти дни усопшие «оттуда» на время возвращаются к своим оставшимся здесь друзьям.
Праздник предваряет «канун». Это — день ярмарки, оживленнейшего базара, где всякий может и должен купить все то, что требуется специальным ритуалом. Улицы и площади заставляются ларьками, лавочками, заполняются бродячими торговцами, и вечером — при свете тысяч фонариков и электрических лампочек — все это гудит, шумит, в разные стороны движется и оживленно торгуется.
За «кануном» идет день «встречи». Дома украшаются фонариками, на набережной морей, рек, речек, ручейков устанавливаются факелы, плошки, фонари. Это приветственные огни, долженствующие встретить возвращающихся на землю отошедших друзей и показать им, что здесь их по-прежнему любят и ждут.
За «днем встречи» наступает радостное общение. Толпы парода переполняют храмы, кладбища. Возжигаются благовония, дымят курительные свечи, блистают цветы — все это в честь тех же возвратившихся теней, как символ радости свидания с ними.
И, наконец, «день проводов». Па этих же побережьях всюду у воды — тысячи игрушечных лодочек п корабликов, сделанных из соломы или бамбука, которые спускаются на волны и постепенно уплывают вдаль. На каждом из этих суденышек горит огонек — плошка, фонарик, свеча, и с этими огоньками скрываются вдали и тени прошедшего, тени потусторонних гостей — до следующего года.
В такую обстановку автор помещает свой рассказ, свою повесть об одной женской судьбе, печальной судьбе, выпавшей на долю молодой девушки о-Тисэ. И наряду с ней в том же повествовании выступает для большего оттенения и вторая подобная же судьба — другой девушки, о-Сии. Так что в результате получается рассказ о двух отвергнутых девушках.
Все их несчастье состоит только в том, что они отвергнуты женихами, что у обеих расстроилась помолвка: у одной — давнишняя, у другой — неожиданная; от одной ушел тот, в ком она с давних пор привыкла видеть своего будущего мужа, от другой — тот, кто ей недавно полюбился, пли, вернее, кому недавно полюбилась она, пбо так ставится в Японии вопрос и по сию пору.
Нужно знать, чем живут еще эти круги японского общества, чтобы понять всю катастрофу, разразившуюся над ними. Отвергнутая невеста — это клеймо, эта печать вечным позором ложится на девушку. Она отвергнута, рассуждают кругом, значит, есть па то причины; начинаются разговоры, сплетни, пересуды об этих причинах, и вокруг девушки воздвигается такая груда всего, что она пе в силах дальше выносить этого ужасного бремени. Волны или полотно железной дороги приобщают к своей печальной хронике еще один эпизод.
И во всей подобной исторйи почти всегда мужчина занимает самую выгодную позицию. Он выбирает, он отвергает; он дарит свою благосклонность, и в любой же момент он ее отнимает. Девушка только принимает и счастлива, если эта благосклонность покоится на пей долго и нерушимо. И если она даже покинута, в пей все же теплится надежда на то, что вдруг, может быть, что-то произойдет и ушедшая любовь к ней вновь возвратится. А вместе с тем и грезы о счастье, о жизни.
Покинута о-Тисэ перед праздником Бон — возвращения теней прошлого, и вся обстановка вызывает в ней воспоминание об этом ушедшем счастье. Опа слышит печальный рассказ соседки о такой же грустной участи, по-стигшей знакомую девушку, такую, казалось, хорошую и достойную. Она узнает о причинах разрыва помолвки там, сравнивает все происшедшее с тем, что было с нею самой. Погружается в печальное воспоминание. Но подобно тому, как праздничный фонарик в ее доме, по традиции зажженный для встречи отошедших теней, знаменует собою, что все может вернуться, даже отошедшие в тот мир, так и в ее душе все еще теплится надежда, и неожиданный приход дяди, о котором она знает, что тот всячески способствует их браку, зажигает в ее сердце яркий факел ожидания — возвращения жизни и счастья. Но смутна эта надежда, ненадежна она, и тускло мерцают для о-Тисэ яркие огни Бона. И совсем почти гаснут они для нее, когда она уже после того, как надежда оказалась напрасной, после того, как около нее пронеслось дыхание смерти (кончина родственника), окончательно все сковавшее,— вновь вступает в вынужденную жизнь на людскую ярмарку.
Таков этот бесхитростный рассказ, переданный не без легкого сентиментального уклона: рассказ, собственно, лишенный особой фабулы, построенный на одной коллизии, но тем не менее необычайно метко обрисовывающий кусочек жизни этих кругов японского общества. Любопытно отметить, что такое быто- и нравоописательное течение часто скатывается совершенно к статическому сюжету. Таков, например, маленький рассказ большого писателя, признанного эстета, Нагаи Кафу— «За деньгами», просто, но детально описывающий день одной служанки в «доме свиданий». Описывается, как она встала, начала уборку, как потом хозяйка послала ее со счетом на дом к гостю, который был в этом домике и оставил счет неоплаченным; описывается, как она вышла на шумную улицу, запуталась в трамваях, наконец доехала до нужной остановки, с трудом отыскала нужный ей дом и наткнулась на отсутствие искомого лица в данную минуту дома. Кончается рассказ словами: «Когда она возвращалась обратно, на улицах уже зажигались фонари». В сущности, ничего, кроме путешествия этой недалекой девицы, в этом рассказе нет, и автор этим довольствуется, как довольствуются, по-видимому, и читатели, для которых это все написано.
Такой уклон в бессюжетность становится особенно заметным с постепенным усилением в японской беллетристике натуралистических тенденций. Здесь часто мы сталкиваемся с такими произведениями, которые прямо поражают этой своей стороной. Таково, например, одно произведение Нацумэ, знаменитого романиста, одно время кумира японской молодежи, произведение, которое трудно даже отнести к привычному для нас жанру. Оно называется «Через стеклянную дверь» и описывает чрезвычайно несложную ситуацию: герой сидит у себя в комнате й смотрит через стеклянную дверь. Дальше идет описание отдельных предметов и изложение его мыслей по их поводу или без особое го повода. И все. Между прочим, тот же Нацумэ может быть назван отчасти представителем того своеобразного течения в литературе, которое приходится охарактеризовать как психоаналитическое, то есть целиком построенное на выявлении своих мыслей и переживаний, на копатель- стве в своих собственных п чужих душах. Иными словами, полное погружение в душевный мир одиночки-интеллигента и старательное выставление всего, что там есть замечательного и незамечательного. Есть ряд произведений такого типа, которые обладают огромной силой, достигают сильнейшей выразительности; есть произведения, овеянные дыханием некоторых страниц Толстого и Достоевского. Но рядом с ними нарочитое копательство, доведенный до самоцели анализ.