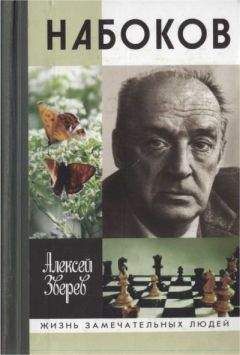За Персона она вышла, рассчитывая насладиться в Америке светской жизнью, — он был ей вполне безразличен. Странный этот брак, похоже, усугубил с малолетства присущую герою душевную нестабильность. Подавленные комплексы, потаенные страхи скорее всего и привели к трагедии: был ужасный сон, а проснувшись, Персон увидел жену лежащей на полу рядом с брачным ложем. Он ее, оказывается, ненароком задушил.
Тюремные психиатры объяснят случившееся своевременно не распознанными стрессами, а критики подведут под их диагноз фрейдовские обоснования, прямолинейно расшифровав название книги: для писателя во всем явном просвечивает тайный смысл, которого люди, как правило, стыдятся. Эти комментарии повергли автора в настоящий шок. Было отчего: те, кому они принадлежат, как будто не заметили, что истории Персона, которая сама по себе и правда похожа всего лишь на клинический случай, предшествует внешне с нею никак не связанная вступительная глава, где даются размышления о будущем, лишенном распознаваемых контуров — «речевая фигура, мыслительный призрак», не больше. И о сиянии прошлого, наполняющем мистические «просвечивающие предметы». И о «тонком покрове непосредственной реальности», натянутом, как пленка, между «сейчас» и «вчера».
Кому они принадлежат, эти мысли, и кто в кратком абзаце, которым открывается роман, приветствует Персона — персону, персонажа, хотя прежде всего он «некто», человек, как остальные? Кто сетует, что персона не слышит обращенного к ней призыва? А на последней странице, самой последней фразой ободряет Персона, вознесшегося очень высоко, в иные миры: «Спокойно, сынок, спокойно, все устроится».
Бестолковым критикам Набоков в том интервью с самим собой прямо объяснил механику фокуса, который им назван немудреным: повествует, разумеется, писатель R. Ведь «сынком» называл Персона только он один. И уверяя, что незачем напрягаться, переносясь в иные миры, этот R. говорит дело, потому что уже переступил невидимую черту. Последнее время у него было совсем скверно с печенью. И теперь он просвечивающая сущность, как, впрочем, и еще очень многие из упомянутых в этой небольшой книге.
Всем им, кто бы они ни были в свою земную пору, известно, что будущее ни для кого не существует в проявленной, определенной форме, а оттого взор всегда прикован к прошлому — с надеждой хотя бы в нем различить какой-то ясный и логичный узор. Но, по крайней мере, для живущих, для тех, кто еще не вознесся туда, где все невесомо и только просвечивает, не материализуясь, эти упования тоже остаются только химерой. Нет ни логики, ни ясности, ни какой-то последовательности причин и следствий: от имени R., но, может быть, и непосредственно от автора, который предупредил, что сейчас произойдет его «прямое вмешательство в жизнь персонажа», такие поиски квалифицированы как «стрельба в молоко». И ничем другим они быть не могут, потому что понятия «вероятное» и «действительное» взаимозаменяемы, а еще скорее — первым из них отменено второе. «Жизнь можно сравнить с человеком, танцующим в различных масках вокруг своей собственной личности», — заключает R. или, возможно, напрямую Набоков). Никто никогда не обретет свою личность как нечто выстроенное и целостное.
Был писатель, буквально одержимый той же идеей, что на поверку прошлое всегда вариативно и что «история, состоящая из ограниченного количества элементов, неизбежно повторяется, но мы никогда не помним предшествующих рядов событий — то есть мы их варьируем всякий раз, не изменяя (не в силах изменить) по существу». Это слова Борхеса, родившегося с Набоковым в один год и довольно часто с ним перекликающегося в своих книгах. Совпадения случались, разумеется, самопроизвольно, и напрасно Набоков, ощутив, что проведут напрашивающиеся параллели, кинулся принижать потенциального соперника: им Борхес никогда себя не чувствовал по отношению к кому угодно во всей мировой литературе, известной ему с неправдоподобной полнотой. Зная, что Борхеса привлекает аллегория (какой, по мнению Бицилли, было и «Приглашение на казнь»), Набоков публично назвал великого аргентинца только наследником Анатоля Франса, писателя вправду легковесного. А в письме одному французскому литератору выразил недовольство из-за того, что тот сопоставляет его шедевры с борхесовскими «эфемерными маленькими притчами».
В действительности такие сопоставления скорее невыгодны для Набокова. Борхес не только разработал намного более тонкую, чем в «Просвечивающих предметах», систему соответствий, неполных совпадений и аналогий, которые стали поэтической метафорой, доносящей мысль «о повторяемости мира в пространстве и во времени». Он воплотил эту мысль в миниатюрах, отмеченных реальным драматизмом, потому что в них речь идет о том, насколько тяжело человеку примириться со своим положением «скорее зрителя, нежели героя или жертвы на сцене». Набоков, с годами все презрительнее судивший о литературе, старающейся пробуждать «человеческий интерес», отзываясь на реальные события и драмы, построил свой сюжет с эфемерностью определенного будущего и проблематичностью прошлого как сугубо философский по внешним контурам. А по существу — как игру, для которой важна идентичность Персона персоне и персонажу. Автор, кем бы он ни был, озабочен исключительно доказательствами своего права и умения обходиться с этим персонажем/персоной по собственному усмотрению, не оглядываясь на бытующие понятия о литературном герое и вообще о литературе как некоем свидетельстве. Иначе говоря, автор — R. или непосредственно Набоков — практически осуществляет ту программу романа будущего, которую лет за десять до «Просвечивающих предметов» возвестил Ален Роб-Грийе, обладавший, по набоковской системе критериев, определенным литературным значением. Роман будущего, согласно Роб-Грийе, покончит с «миром „значений“ (психологических, социальных, функциональных)», он превратится в описание предметов, даваемых «в их присутствии», без попыток объяснения «в некой системе координат — социологической, фрейдистской, метафизической, навеянной чувствами, любой иной». Предметы останутся, однако они будут «как бы насмехаться над своим собственным смыслом».
«Просвечивающие предметы» явились, пожалуй, даже более последовательным осуществлением этого пророчества насчет романа будущего, чем тексты самого Роб-Грийе, зачем-то названные им романами, — такие, как «Проект революции в Нью-Йорке» или «Типология города-призрака». Тогда, в начале 70-х годов, подобные упражнения еще не сделались массовым занятием литераторов, которым ужасно хотелось быть ультрасовременными по языку, и поэтому предпоследний роман Набокова многие просто не поняли, включая такого незакоснелого прозаика, как Апдайк, чья рецензия начиналась с честного признания: книги, написанные так, как эта, для него недоступны. Однако кое-что он уловил верно: новая книга Набокова повторяет ходы, которые усиленно использовались и в «Бледном огне», и в «Аде», а ее философия не идет дальше общих мест. Их и прежде сотни раз пытались обосновать — с тем же сомнительным успехом.
Все главным образом сводится к утверждению: реально лишь открывшееся по ту сторону, однако очень вероятно, что там не открывается ничего, — только пустота, невесомость, тени без самого предмета, абсолютный вакуум. В «Приглашении на казнь» герой был осужден за сохраненную им непрозрачность, когда всё вокруг — идеи, люди, их отношения — стало нереальным, отрицающим мысль об укорененности в мире, а значит, и о некоторой ответственности за его состояние. Теперь прозрачность сделалась универсальной и всеобщей. Нет притяжения земной жизни, есть лишь свечения — эфемерности, миражи, обманная мудрость. Нет никаких опор и ограничений для автора, он распоряжается судьбой придуманного персонажа без оглядки на обстоятельства реального мира. А затем, в свою очередь, исчезает, растворясь в собственном тексте, из которого не протягивается ни ниточки к «правде повседневности», отвергнутой и осмеянной, хотя без нее — у Камю были все основания так считать — «искусство утрачивает жизнь».
* * *
К тому времени, как Набоков закончил свой роман, была подготовлена к печати достаточно полная библиография его произведений, включая газетные статьи и шахматные этюды. Ее составил Эндрю Филд, пятью годами раньше уже выпустивший и первую биографию Набокова, имевшую подзаголовок «Жизнь в искусстве». Потом он приступит к переработке этой своей книги 1967 года, поддерживая постоянный контакт с ее героем и для бесед с ним время от времени наезжая в Монтрё. Австралиец с пышной черной бородой (Набокову отчего-то везло на биографов довольно экзотического происхождения: следующим после Филда будет новозеландец Брайан Бойд, — оба, правда, учились в Америке и в итоге туда перебрались насовсем) сумел расположить к себе старого писателя. И в письмах, и в печати Набоков долгое время отзывался о нем не иначе как о «моем славном друге… человеке образованном и талантливом».