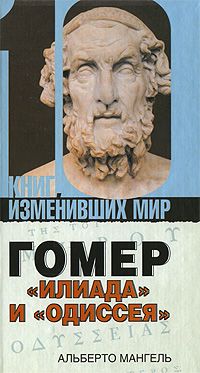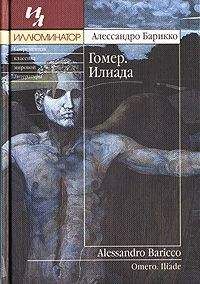Насколько известно современной науке, в период расцвета переводов на арабский не было зафиксировано ни одного полного перевода Гомера. Во времена династии Абассидов существовало лишь несколько учёных, ознакомленных с сюжетом «Илиады» и «Одиссеи», фрагменты двух этих поэм появлялись в популярных рассказах. К примеру, некоторые из приключений Улисса легли в основу историй о Синдбаде[135]. Антология военных подвигов арабов, датированная поздним XIII или XIV веком, рассказывает историю, похожую на мотив гнева Ахиллеса и убийства Гектора. Несомненно, источником этой истории мог быть и не Гомер, а один из многочисленных пересказов событий Троянской войны.
«История рассказывает нам о том, как царь византийских греков хитростью вознамерился захватить Ифрикию [Фригию], но народ узнал об этом до вторжения и скрылся в стенах города [Трои], который долгое время держался в осаде войсками захватчиков, но их усилия были тщетны: врата города выдерживали все атаки. Среди горожан был человек по имени Актар [Гектор] — решительный и храбрый. Всякий воин, кто отважился выйти против него, был обречён. Об этом сообщили греческому царю [Агамемнону].
У царя в армии был воин, именуемый Арсилай [Ахиллес]. Храбрость его была непревзойдённой; однако он под влиянием гнева на решение царя отказался сражаться. Царь требовал и просил, однако Арсилай был непреклонен. Тогда царь повелел распустить слух, будто брат Арсилая был взят в плен Актаром.
Арсилай испытал большое горе, когда услышал об этом. Он искал брата повсюду, но не мог найти. Тогда он взял в руки оружие и вышел сразиться с Актаром. Он победил Актара, и взял его в плен, и отвёл к царю греков, и царь греков умертвил Актара. Народ Ифрикии и все их союзники впали в отчаяние, узнав о том, что их герой погиб. Царь греков и Арсилай вновь повели войско на осаждённый город. Они нанесли тяжкое поражение врагу и завоевали те земли…»[136]
В данную версию событий Троянской войны привнесены два важных изменения: во-первых, Гектор на самом деле не убивал «брата» Ахиллеса — известие об убийстве всего лишь слух, пущенный по приказу Агамемнона; во-вторых, Ахиллес не убивает Гектора, он лишь берёт его в плен; казнь Гектора происходит по велению Агамемнона. Таким образом, Агамемнон оказывается главным действующим лицом повествования.
К концу X века арабская переводческая школа стала терять свой блеск, но прежним осталось желание арабов наполнить собственную культуру мудростью, накопленной в других культурах задолго до того. Арабские учёные, облекавшие слова греков плотью родного языка и оживлявшие греческие тексты своими комментариями, занимались этим не столько ради сохранения культуры Греции (последняя была для них не важнее, чем культура Персии), сколько ради «присвоения и ассимиляции»[137], стремясь впитать знания греков. Начиная с XI и до XIII века многие из переведённых на арабский язык произведений античной Греции были, в свою очередь, переведены на другие языки, в частности, на латынь и иврит. На Сицилии и в особенности в Испании труды Аристотеля, снабжённые примечаниями аль-Фараби, Авиценны и Аверроэса (в арабском варианте — Ибн Рушд) были переосмыслены благодаря комментариям переводчиков. Также некоторые художественные произведения и поэзия появились в Европе в арабском варианте и были позже переведены на другие языки. Благодаря этому активному процессу несколько эпизодов из поэм Гомера, по-своему трактованные арабскими переводчиками, трансформировались в испанские романсы, канцоны Прованса, французские сказки-фаблио и так далее.
Прошло много времени, прежде чем в 1857 году Вильгельм Гримм, один из знаменитых немецких братьев-сказочников, предположил, что в основе варьирующихся, но тем не менее схожих сюжетов лежат истории Гомера, которые изначально были преподнесены читателю как легенды об имевших место в далёком прошлом событиях. Легенды эти постепенно превращались в народные сказания, фиксированные время и место действия сменились на общее для всех сказочных сюжетов «в некотором царстве, в некотором государстве», а те, кто «жили-были однажды», из античных греческих героев стали Гансами, Иванами и Джеками[138]. Конечно, можно лишь строить предположения относительно того, как далеко за пределы Греции распространились сюжеты Гомера. Например, существуют факторы, давшие филологам основания полагать, что «История об одноруком Эгиле и Асмундре, грозе берсерков», исландская сага, датированная примерно 1300 годом, испытала значительное влияние «Одиссеи» — в частности, эпизода встречи Улисса и циклопов[139], в английском фольклоре вошедшего в сказку «Джек Бобовое Зёрнышко».
При всей важности арабских переводчиков, не только они вдохнули вторую жизнь в античное наследие Европы[140]. Большая часть величайшей художественной и философской литературы и драматургии пришла в Европу гораздо позже и отнюдь не через арабские переводы. И всё же в переводе или в оригинальном, древнегреческом варианте, с комментариями и глоссами или без таковых, в виде разрозненных сюжетов и персонажей или цельного произведения, рассматриваемые как аллегории или как достоверное описание исторических фактов — поэмы Гомера вновь стали занимать воображение читателей, на этот раз европейских. В начале XVI века Хуан де Мена в своём предисловии к «Илиаде», обращённом к королю Хуану II, попытался объяснить механизм подобного возобновившегося интереса к Гомеру. Такие авторы, как Авиценна, писал он, подобны шелкопрядам, сплетающим книги из нитей собственных мыслей; однако себя де Мена уподоблял «пчеле, собирающей нектар с мёдоточивых цветков, что цветут в чужих садах». «Воистину велик мой дар, если я, обкрадывая других, не обрекаю украденное мною на разложение. Воистину велика и моя храбрость, если я отважился переводить и толковать такой величайший труд, как «Илиада» Гомера, с греческого переведённый на латынь, с латыни же — на наше грубое кастильское наречие»[141].
Обычные читатели — не такие строгие судьи, как учёные и критики. Открывая книгу, они просто дают свободу своему воображению вести диалог со всем, что они читали ранее, позволяя значениям, иносказаниям, образам обогащать и дополнять друг друга. В сознании читателя сюжеты, герои и даже авторы сливаются воедино; и союз их так тесен, что совершил ли то или иное деяние Арсилай или Ахиллес, где заканчиваются приключения Улисса, описанные Гомером, и начинаются приключения Синдбада, описанные арабским автором, — уже не важно.
Данте был этому господину известен как сумасбродный эксцентрик из числа тех древних типов, что, обвив голову лавровым венком, неизвестно ради чего взгромоздившись на табурет, красуются в непосредственной близости от Флорентийского собора.
Чарльз Диккенс, «Крошка Доррит»
Средневековье подходило к концу, и учёные и поэты снова вернулись к вопросам, которыми задавались Святой Иероним и Блаженный Августин, когда искали связь между поэмами Гомера и Библией. Гомера по-прежнему трактовали иносказательно, сопровождая изучение текстов поиском аналогий между знанием, которому учили древние, и накопленным христианской церковью (при этом в такого рода параллельных трактовках ни античная, языческая, ни христианская мудрость не исключали друг друга). В то время в искусстве и литературе уже укрепилась традиция примечаний к библейским Заветам; сюжеты и образы из Нового Завета часто подкреплялись примерами из Ветхого, и наоборот (например, древо познания, с которого Адам и Ева сорвали запретный плод, могло соседствовать с крестом, на котором умер распятый Христос). Подобным же образом проводились и аналогии между Библией и Гомером: так, Ахиллеса сравнивали с ветхозаветным Давидом, а странствия Улисса прежде, чем он вернулся в родную Итаку, — с исходом из Египта.
В начале XIV века Альбертино Муссато, наиболее известный из числа поэтов, входивших в «cenacolo padovano», поэтический кружок в Падуе, утверждал, что в творчестве языческих авторов в форме загадок и иносказаний заложены те же идеи, что и в Писании, и древние также предсказывали появление посланника Божьего. Муссато называл их поэзию второй теологией[142] (перефразировав это утверждение, Петрарка писал позже: «Теология — это поэзия самого Господа»[143]).
Рассуждая о языческой поэзии, Муссато имел в виду в первую очередь Гомера. Несмотря на то, что литературное наследие Римской империи занимало важное место в библиотеках времён Возрождения, Гомер считался первоисточником, родником, без свежей воды которого не взошли бы цветы других поэтов. Когда Данте встречает выдающихся поэтов древности в первом круге Ада, во главе процессии он видит Гомера, размахивающего мечом, тем самым утверждая превосходство эпической поэзии над другими её разновидностями. Гомер и другие подходят поприветствовать Вергилия, а затем, к удивлению Вергилия — Данте[144], то есть сначала приветствует того, кто в «Энеиде» воспел триумф Рима, а затем — того, кто в будущем воспоёт триумф христианства.