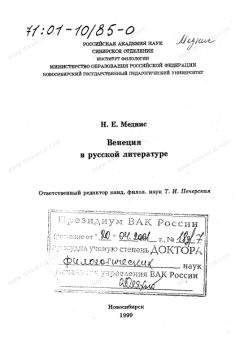Возможно, непроявленность начального звена венецианской космогонии была в какой-то мере причиной возникновения поэтической формулы «бытие без корня» —
И тайну бытия без корня
Постиг я в час рожденья дня —
тем более, что она соседствует у Б. Пастернака со стихами, содержащими образ всплывающей из вод Венеции. С представлением о неукорененности города, видимо, связаны и образы Венеции, уподобленной плывущим кораблю, лодке, острову. В русской венециане начало этому образу положил Пушкин, который в стихотворении «Влах в Венеции» (1834) из «Песен западных славян» создал очень емкий, предметно точный и потому хорошо запоминающийся образ водного города:
Вот живу в этой мраморной лодке…[68]
Не случайно в 1841 году П. В. Анненков, говоря о Венеции как о плавающем городе, отсылает к Пушкину: «…с одного холма этого острова [Лидо. — Н. М.] направо видна необозримая пелена Адриатики, налево Венеция, плавающая на поверхности воды, как мраморная лодка, по выражению Пушкина»[69].
В XIX веке вне пушкинской линии, к тому времени ставший уже нарочито претенциозным, а потому безликим, клишированным, образ города, плавающего, как стая лебедей, возникает у И. Мятлева в «Сенсациях и замечаниях госпожи Курдюковой».
Образ плавающей на поверхности вод Венеции оказался очень продуктивным для литературы ХХ века, породив череду вариаций от плавучего сказочного града до корабля: «Этот плавучий город подобен тем, о которых рассказывается в сказках, — отрезанный от мира, остаток былой красоты, плавает он под южным солнцем, среди своего моря» (П. Перцов. «Венеция») (24);
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.
(Б. Пастернак. «Венеция», 1928);
«Когда я вышел из вокзального здания с провинциальным навесом в каком-то акцизно-таможенном стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги. Что-то злокачественно темное, как помои, и тронутое двумя-тремя блестками звезд. Оно почти неразличимо опускалось и подымалось и было похоже на почерневшую от времени живопись в качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображение Венеции и есть Венеция… Привокзальный канал слепой кишкой уходил за угол, к дальнейшим чудесам этой плавучей галереи на клоаке» (Б. Пастернак. «Охранная грамота») (243);
Причаль сюда, Венеция,
Под маской кружевной.
(Вс. Рождественский. «Венеция»)
И всходит в свой номер на борт по трапу
Постоялец, несущий в кармане граппу…
(И. Бродский. «Лагуна»).
В системе пространственных координат образ плавающего города служит знаком венецианского серединного мира, который развертывается по горизонтали и в основных очертаниях описан выше. Однако у серединного мира Венеции есть одна специфическая черта, прочно связывающая его с вертикалью, обозначенной своими крайними точками. Речь идет о водном зеркале, отражающем в себе небо. Особенности такого рода вертикальной зеркальности рассматривались в литературоведении. Помимо весьма значимых в этом ряду работ Ю. И. Левина, Л. Н. Столовича, З. Г. Минц и Г. В. Обатина, А. З. Вулиса[70] следует отметить статью Е. К. Сазоновой «Космологические зеркала: Образ „двойной бездны“ в русской поэзии XIX — начала ХХ века»[71]. Подробно о функциях водного зеркала мы будем говорить далее, в главе о венецианских зеркалах; здесь же отметим только те его характеристики, которые связаны с различными измерениями пространства.
Проблема мены верха и низа через отражение неба в воде занимала многих художников и нашла эстетическое воплощение в сотнях поэтических и прозаических образов, но Венеция являет собой уникальный случай, когда отражение верхнего мира в серединном делает город существующим одновременно на нескольких пространственных уровнях. В результате со сменой точки зрения и угла отражения город может удваивать, иногда даже утраивать и менять свои пространственные проекции. Положение Венеции между зеркально удвоенным верхом, отраженным в точке абсолютного низа, представлено в литературе единичными примерами, а в точном выражении встречается лишь однажды — в стихотворении Вяч. Иванова «Колыбельная баркарола» (1911–1912). Возникающий здесь тройной образ ладьи-гондолы — знака-репрезентанта Венеции — проецирует сам образ города сразу и вверх и вниз:
В ладье крутолукой луна
Осенней лазурью плыла,
И трепет серебряных струн
Текучая влага влекла —
Порою… Порою темна,
Глядела пустынная мгла
Под нашей ладьей в зеркала
Стесненных дворцами лагун.
Не руша старинного сна,
Нас гондола тихо несла
Под арками черных мостов;
И в узких каналах до дна
Глядела другая луна,
И шелестом мертвых листов
С кормою шептала волна.
Близко к Вяч. Иванову блоковское:
Марк утопил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас.
Половинная относительно стихотворения Вяч. Иванова проекция серединного мира в верхний через ту же метафору лодки-гондолы обнаруживается у М. Кузмина:
Кофей стынет, тонкий месяц
В небе лодочкой ныряет…
(«Венеция»)
Вне венецианского контекста этот образ мог быть, но мог и не быть знаком взаимоотражения миров, но в венецианском тексте семиозис гондолы столь активен, что сомнения здесь отпадают сами собой.
Совмещение отражений в венецианских каналах дневного или ночного неба и городских строений помещает Венецию в пространство небесных сфер, как бы проявляя невидимого вне магического водного зеркала двойника города в верхнем мире. Это порой порождает череду ассоциаций, благодаря которым возникает сакрализующий контекст, как, к примеру, в «Охранной грамоте» Б. Пастернака: «Есть особый елочный восток, восток прерафаэлитов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха… К ним надо отнести и колорит ночной Венеции и ее водных отражений» (243). Позднее эхо Б. Пастернака отзовется в космическом образе рождественской Венеции И. Бродского:
…пансион «Академия» вместе со
всей вселенной плывет к рождеству…
(«Лагуна»)
В некоторых поэтических текстах связь серединного мира с верхним открыто не опосредована водным зеркалом, хотя предположить его образотворящую функцию вполне возможно:
Увижу ли еще тебя когда-нибудь
Или сейчас с собой навеки унесу
Мерцающую на земле, как в небе,
Сновидческую дикую красу.
…Эмаль ли, брошь ли дивная, камея ли
У моря и у неба на груди…
(Л. Озеров. «Прощание с площадью святого Марка», 1973)
Наконец, вне аллюзий к водному зеркалу встреча земного и небесного происходит при возникновении изоморфных образов города, обращенных друг к другу из серединного и верхнего миров:
Удары колокола с колокольни,
пустившей в венецианском небе корни,
точно падающие, не достигая
почвы, плоды.
(И. Бродский. «С натуры», 1995)
Колокольня здесь становится подобной космическому дереву сефирот, растущему по отношению к земле сверху вниз, которое одновременно есть символ оси мира, знак центра, каковым и предстает Венеция в данном стихотворении И. Бродского благодаря еще одной поддерживающей данный образ метафоре:
…Здесь, где столько
пролито семени, слез восторга
и вина, в переулке земного рая
вечером я стою…
«Переулок земного рая» — образ семантически двойственный, несущий в себе указание на центр, но, одновременно, на периферию центра. По контексту стихотворения нельзя с полной достоверностью сказать, сама ли Венеция для И. Бродского — переулок земного рая, или она и есть земной рай, на периферии которого отводит себе место поэт. Второе наиболее вероятно, но в любом случае образ укорененной в небе колокольни и представление о Венеции как о земном рае делают водный город земной копией небесного града, с которым она связана основными точками своего топоса.
Еще один аспект сопряжения небесного и серединного мира обнаруживается в произведениях, рисующих Венецию вечернюю, предзакатную. Грань горизонта в этом случае стирается, отражающие закат воды сливаются с закатным небом, и город оказывается расположенным в точке их соединения. Упомянутые выше стихотворения П. Вяземского «Пожар на небесах и на земле пожар…» и «Венеция» М. Волошина представляют данный вариант с наибольшей полнотой и яркостью.