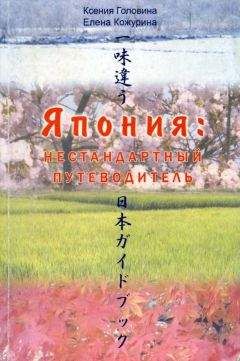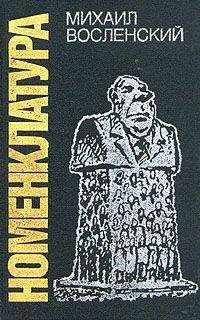Совмещение архаического и современного значений слова в поэзии может снимать противопоставление положительной и отрицательной оценки в номинации понятия. Так, в большинстве произведений М. Цветаевой слова любовник, любовница включают в себя одновременно и архаическое, и современное значение без какого бы то ни было противопоставления:
Плохой товарищ он был, — лихой И ласковый был любовник! (И., 70);
Юный месяц идет к полуночи: Час монахов — и зорких птиц, Заговорщиков час — и юношей, Час любовников и убийц (И., 70);
Я знаю правду! Всё прежние правды — прочь! Не надо людям с людьми на земле бороться! Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь. О чем — поэты, любовники, полководцы? (И., 72);
Долг и честь, Кавалер, — условность.
Дай вам бог — целый полк любовниц! (И., 124);
И ты откажешь перлу всех любовниц Во имя той — костей (И., 152).
М. Цветаева видит в таком совмещении современного и архаического значений слова «реабилитирующее» расширение его смысла. В эссе «О любви» она пишет: «NB! „Любовник“ и здесь и впредь как средневековое обширное „amant“. Минуя просторечие, возвращаю ему первичный смысл» (Соч.-2, 281).
В ряде случаев поэтический контекст актуализирует угасающую связь архаического значения с современным, как бы выявляя в современном значении слова его исконный, но забытый смысл. Так, слово лесть в современном его значении 'преувеличение, угодливое восхваление кого-л., чьих-л. качеств или действий' лишь потенциально сохраняет связь со значением 'обман', четко выраженным в древнерусском языке: «ЛЕСТЬ. 1. Обман, хитрость, коварство. // Ложь. 2. Обольщение, соблазн, приманка. 3. Ложное учение, заблуждение, ересь» (Словарь XI–XVII вв.).
М. Цветаева употребляет слово лесть и его производные в современном значении чаще всего в таких контекстах, которые прямо указывают на обман, ложь или опасность:
Не для льстивых этих риз, лживых ряс — Голосистою на свет родилась! (И., 188);
Минута: мерящая! Малость
Обмеривающая, слышь:
То никогда не начиналось,
Что кончилось. Так лги ж, так льсти ж (И., 252);
Не доверяй перинам: С сугробами в родстве!
Занежат, — лести женской Пух, рук и ног захват, Как женщина младенца Трехдневного — заспят (И., 264).
Аналогичным образом архаическое значение выступает как критерий истины и тем самым обогащает современное значение этимологическим и в таком контексте:
Левая — она дерзка, Льстивая, лукавая. Вот тебе моя рука — Праведная, правая! (С., 120).
Противопоставление архаического и современного значения слова в пределах одного словоупотребления хорошо видно на примере слова ревность и его производных:
Так, в скудном труженичестве дней, Так, в трудной судорожности к ней, Забудешь дружественный хорей Подруги мужественной своей.
(…)
Все древности, кроме: дай и мой, Все ревности, кроме той, земной, Все верности, — но и в смертный бой Неверующим Фомой (И., 194);
Было дружбой, стало службой. Бог с тобою, брат мой волк! Подыхает наша дружба: Я тебе не дар, а долг!
(…)
Чем на вас с кремнем-огнивом В лес ходить — как бог судил, — К одному бабье ревниво: Чтобы лап не остудил (И., 166–167)
Приведенные контексты различны по своей стилистике: в первом из них семантический архаизм окружен лексикой высокого стиля, поддерживающей архаическое значение слова ревность — 'усердие, рвение', во втором он окружен разговорно-просторечной лексикой и фразеологией. Но в обоих случаях ревность как 'рвение' в высоком смысле противопоставлена ревности в современных значениях этого слова: 1) 'мучительное сомнение в чьей-нибудь верности, любви, в полной преданности, подозрение в привязанности, в большей любви к кому-л. другому'; 2) 'зависть к успеху другого, нежелание делить что-л. с кем-л.' (MAC). Первый контекст наглядно показывает это противопоставление не только подчеркнутым исключением «земной» ревности из всего объема понятий, способных быть выраженными этим словом, но и включением слова ревности в структурный повтор вертикального анаграмматического ряда древности — ревности — верности. Являясь центральным членом этого ряда, слово ревности включает в себя смыслы соседних членов, и эта триада как триединство подлинных ценностей комплексно противопоставлена ложным ценностям земного порядка, к которым относится и ревность в современном обиходном значении этого слова.
Обращает на себя внимание необычное для М. Цветаевой употребление формы множественного числа в этом контексте. Окказиональные формы множественного числа абстрактных существительных у Цветаевой разоблачают низменный или обыденный смысл явления, прикрытого высокими словами. Здесь же конкретизация абстрактных понятий «ревность» и «верность» передает земные, но не низменные воплощения этих понятий в их многообразных проявлениях. Может быть, в этом контексте «ревности» противопоставлены обиходному понятию «ревность» именно многообразием конкретных достойных проявлений рвения, в то время как «ревность» в обиходном понимании предполагает только одну недостойную страсть.
Во втором контексте архаичное значение слова ревнивый 'усердный, ревностный', выступающее на фоне разговорно-просторечной лексики и фразеологии, стилистически не контрастирует, а гармонирует с этим фоном как значение, отражающее народное сознание. Контрастирует же это архаическое значение как исконное (т. е. для М. Цветаевой подлинное) с современным обиходным значением 'склонный к ревности, боящийся превосходства другого над собой', как со значением ложным. Тем самым из содержания понятия «ревность» устраняется его «низкий» смысл, в чем и сосредоточена главная мысль стихотворения «Волк». Вытеснение одного из значений слова подготовлено в этом стихотворении серией противопоставлений, частично основанных на перефразировании популярных поговорок и пословиц (Было дружбой, стало службой — ср. Не в службу, а в дружбу; Бог с тобою, брат мой волк — ср. Человек человеку брат и Человек человеку волк).
Заметим, что в контекстах, в которых говорится о ревности античных богов и библейского бога и в которых поэтому естественно было бы встретить архаическое значение слова, ревнивый, это слово имеет, по-видимому, только современное значение, связанное с понятием соперничества:
Смуглой оливой Скрой изголовье! Боги ревнивы К смертной любови.
Каждый им шелест Внятен и шорох. Знай, не тебе лишь Юноша дорог. (…)
Бойся не тины — Тверди небесной! Ненасытимо — Сердце Зевеса! (И., 175–176);
— Ты и путь и цель, Ты и след и дом. Никаких земель Не открыть вдвоем.
В горний лагерь лбов
Ты и мост и взрыв.
(Самовластен — бог
И меж всех ревнив.) (И., 200).
Конечно, в этих контекстах речь идет о борьбе духовного и телесного начал в человеке, о могуществе духовного начала, лишающего человека земных благ. В том, что именно рвение, стремление к победе духовного начала над телесным Цветаева называет ревностью богов в современном смысле этого слова, проявляется материализация духовного и одухотворение материального как особенность цветаевского творчества (см.: Ревзина 1988).
Пример со словом лихой показал, что для совмещения двух значений в одном словоупотреблении благоприятна позиция поэтического переноса: она дает возможность контаминировать синтагмы, в которых реализуются разные значения слова или значения омонимов. Совмещение современного и архаического значений слова в этой позиции тоже выступает особенно отчетливо:
«Пушкин — тога, Пушкин — схима, Пушкин — мера, Пушкин — грань…»
Пушкин, Пушкин, Пушкин — имя Благородное — как брань Площадную — попуган. — Пушкин? Очень испугали! (И., 283).
Если в современном русском языке слова брань 'битва' и брань 'ругань' утратили семантическую связь (MAC дает эти слова как омонимы), то в «Стихах к Пушкину» эта связь явно восстанавливается. М. Цветаева осуждает использование имени Пушкина как охранительного символа традиционности в поэзии, указывая на бунтарский характер его творчества. Слово брань в стихотворении стоит на сильном строфическом переносе. Синтаксический строй этих строк предполагает членение, при котором выделяются две структурно параллельные и противоположные по смыслу синтагмы: имя благородное (винительный падеж) и брань площадную. Однако положение слов имя и брань перед паузами стиховых переносов, вызывая обычное в таких случаях противоречие между синтаксисом, и ритмом, приводит к перегруппировке членов синтагм. В результате слово брань становится членом сравнительного оборота благородное — как брань, поскольку внутристрочное притяжение слов, вызванное ритмом, сильнее, чем междустрочное («в принципе каждый стих — это группа слов, произносящаяся одним дыханием, тесно связанная по смыслу, т. е. некая обособленная единица, синтагма» — Холшевников 1985, 35).