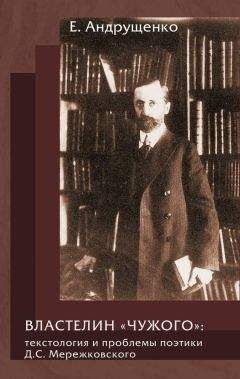В восьмой главе, завершающей «Жизнь», характер цитируемого материала не меняется, но смещаются акценты. Д. Мережковский говорит о неявном облике Ф. Достоевского, подводя к мысли о его «раздвоенности». Она соотносится с продемонстрированной ранее «раздвоенностью» Л. Толстого. Главу завершают три портрета: Л. Толстого по книге П. Сергеенко, Ф. Достоевского по рассказу Спешнева, зафиксированного О. Миллером и пересказанного Д. Мережковским, и А. Пушкина по портрету О. Кипренского. Их внешность дает возможность автору сделать далеко идущие выводы о будущности русской литературы.
«Если лицо завершающего гения есть по преимуществу лицо народа, то ни во Льве Толстом, ни в Достоевском мы еще не имеем такого русского лица. Слишком они еще сложны, страстны, мятежны. В них нет последней тишины и ясности, того „благообразия“, которого уже сколько веков бессознательно ищет народ в своем собственном и византийском искусстве, старинных иконах своих святых и подвижников. И оба эти лица не прекрасны. Кажется, вообще у нас еще не было прекрасного народного и всемирного лица, такого, как, например, лицо Гомера, юноши Рафаэля, старика Леонардо. Даже внешний образ Пушкина, который нам остался — этот петербургский денди тридцатых годов, в чайльдгарольдовом плаще, со скрещенными на груди по-наполеоновски руками, с условно байроническою задумчивостью в глазах, с курчавыми волосами и толстыми чувственными губами негра или сатира, едва ли соответствует внутреннему образу самого родного, самого русского из русских людей» (89).
Неизведанность подлинного облика А. Пушкина также подтверждается впечатлением современников о мгновениях, когда А. Пушкин становился неузнаваем. Оно содержится в «Записках» А. Смирновой, но отсутствует в их выверенном тексте. Описание внешности прокладывает путь к мысли о том, что
«будущего, третьего и последнего, окончательно „благообразного“, окончательно русского и всемирного лица не должно ли искать именно здесь, между двумя величайшими современными лицами — Л. Толстым и Достоевским?» (90).
Таким образом, облик «будущего» гения русской литературы будет своего рода синтезом «лиц» Л. Толстого и Достоевского.
Вторая часть книги посвящена творчеству писателей. Первые четыре главы — Л. Толстого, пятая и шестая — Ф. Достоевского, а седьмая, в которой их наследие помещено в широкий историко-литературный контекст, становится связующей между первыми двумя и третьей частью книги, «Религией». При истолковании творчества писателей присутствует не только А. Пушкин, с которым они были соотнесены во Вступлении и последней главе первой части, но и вся мировая литература в ее определенных — названных ранее — именах и произведениях. Отличительной особенностью второй части книги является включение античного и библейского интертекста.
Исходным тезисом, организующим дальнейшее изложение, становятся слова ап. Павла из I послания Коринфянам (15: 40–44), представленного в такой интерпретации Д. Мережковского:
«Апостол Павел разделяет существо человеческое на три состава, заимствуя это разделение от философов александрийской школы: телесный, духовный и душевный. Последний есть соединяющее звено между двумя первыми, нечто среднее, двойственное, переходное и сумеречное, уже не плоть, еще не дух, полуживое, полубожеское, что, выражаясь на языке современной науки, относится к области психофизиологии — телесно-духовных явлений» (103).
Поскольку задачей Д. Мережковского было представить Л. Толстого «тайновидцем плоти», а Ф. Достоевского «тайновидцем духа», анализ их наследия ведется в соответствующем контексте. Так, мастерство Л. Толстого в изображении «плоти» сопоставляется с тем, как сущность человека, исторический колорит, бытовую обстановку и природу описывают его предшественники — от Гомера до И. Тургенева. Плотность примеров велика, в один ряд соединяются явления разных веков и разных литератур.
Четвертая глава «Творчества» представляет собой рассуждение о «Божьей твари». Как и третья глава первой части, она становится своего рода отступлением, важным, однако, для «Религии». Глава написана на материале произведений Л. Толстого, но рассмотренных в контексте античной мифологии, философских и религиозных учений, с привлечением цитат из трудов Ф. Ницше, афоризмов Л. да Винчи, из «Фауста» Гёте и из Библии. Воспевание «преображенной», одухотворенной плоти в мировой культуре соотносится с бессознательным, будто бы, стремлением Л. Толстого изобразить «святое Тело» и «духовную Плоть», которое, однако, успехом не увенчалось:
«Но этого шага не сделал он — изнемог, испугался, затосковал о небе надземном, повернул назад и стремился от того, что казалось ему „язычеством“, к тому, что кажется ему „христианством“, от „духовного тела“ к бестелесной духовности, от святой плоти к бесплотной святости, от воскресения плоти к умерщвлению плоти. Все, что создано было его творческим сновидением, захотел он уничтожить своим сознанием. Но ежели он сам не видит, то мы за него видим, и те, кто после нас придут, еще яснее увидят, что к тайне Христовой был он истинно близок не тогда, когда считал себя христианином, когда меньше всего думал о христианстве, — не в косноязычном лепете старца Акима, а в безмолвной думе дяди Ерошки о „Божьей твари“, о „Звере“, который „знает все“, о мудрости небесных птиц и лилий полевых. Только через божеское в зверском коснулся он божеского в человеческом — через Бога-зверя коснулся Богочеловека» (141).
Пятая глава открывается утверждением, определяющим характер дальнейших размышлений Д. Мережковского:
«Если бы в литературе всех веков и народов пожелали мы найти художника, наиболее противоположного Л. Толстому, то нам пришлось бы указать на Достоевского. Я говорю — противоположного, но не далекого, не чуждого, ибо часто они соприкасаются, даже совершенно совпадают, по закону сходящихся крайностей, взаимного тяготения двух полюсов одной и той же силы» (142).
Он противопоставляет творчество писателей по нескольким аспектам: сущность их персонажей («жертвы» у Л. Толстого и «борьба» героической личности со «стихиями» у Ф. Достоевского) и особенности их изображения; характер повествования (эпос у Л. Толстого и трагедии у Ф. Достоевского) и язык; интеллектуальность (муза Л. Толстого «не удостаивает быть умною», муза Ф. Достоевского обладает «умным жалом чувства»); милосердие — жестокость; трезвость сознания — сумасшествие, «священное безумие»:
«Пушкин унес в гроб тайну своего великого здоровья. Достоевский — тайну своей великой болезни. И Ницше, труп Сверхчеловека или только человека, ушел от нас и унес в свое безумие загадку своей мудрости» (160).
Таким образом, в противопоставление включаются Пушкин и Ф. Ницше. Оно углубляется в начале шестой главы введением имен Петра I и Пушкина как создателя «Медного всадника» — речь идет о петербургской теме русской литературы и полном равнодушии Л. Толстого к ней.
Образуется своего рода поле, в котором во взаимодействие вступают уже не конкретные имена, а мифологемы:
«Не удивительно ли: „реальный“ Л. Толстой зачался и вырос во весь свой исполинский рост, как будто „петербургского периода русской истории“ — ни Петра, ни Пушкина вовсе не было. Он даже не отрицает, а только обходит их мимо. И рядом, „фантастический“ Достоевский оказывается в самой живой, жизненной, реальной и сознательной связи со всею историческою преемственностью русской культуры, с Петром и Пушкиным, петербургским Пушкиным, творцом „колоссального“ Германна (который, конечно, предвещает не менее „колоссального“ Раскольникова). Не с того ли именно, чем кончает певец „Петрова Града“ — не с глубочайших ли предсмертных мыслей Пушкина о „чудотворном строителе“ — Достоевский начинает? Да, он вышел из Петербурга, и этого не должно ему стыдиться, ибо ведь, в конце концов, Петербург есть все-таки создание русского, если не всегда, то, по крайней мере, доныне самого русского и в то же время самого всемирного из русских героев. Петербург, этот противоестественный, „умышленный“ город бесплотных, бескровных людей, призраков с плотью и кровью — по-преимуществу — город Достоевского, и Достоевский по-преимуществу — художник Петербурга.
И, однако, он уже не сказал бы, подобно Пушкину: „Красуйся, град Петра, и стой / Неколебимо, как Россия“. Достоевский, первый из русских, почувствовал и понял, что здесь-то именно, в Петербурге, петровская Россия, „вздернутая на дыбы железною уздою“, как „загнанный конь“, дошла до какой-то „окончательной точки“, и теперь „вся колеблется над бездною“. — „Может быть, это чей-нибудь сон? Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится — и все вдруг исчезнет?“ Он даже наверное знает, что исчезнет, знает, что никогда Россия не пойдет назад в Москву, куда зовут ее славянофилы, ни еще дальше назад в яснополянское, как будто крестьянское, на самом деле помещичье „Царствие Божие“, куда зовут ее толстовцы; но, вместе с тем, он знает, что Россия и в Петербурге не останется» (165–166).