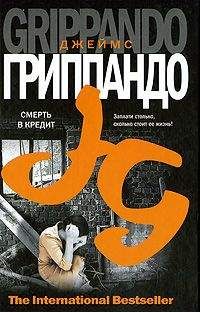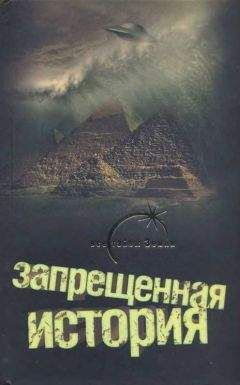Заметьте, как конкретны детали; именно это создает ощущение, что повествователь знает, о чем говорит. Он не только показывает, как выглядит Скарлетт, но и рассказывает о ее происхождении и взглядах южан. Это беспристрастный голос репортера, который не высказывает свое мнение и не дает оценок, но констатирует факты. При этом его тон имеет мелодраматический, почти эпический оттенок: лицо «приковывало к себе взгляд», «точеный подбородок», «белый, как лепесток магнолии, лоб» — все эти выражения уместны в мелодраматическом произведении. Видно, что автор прекрасно владеет материалом, и ему есть, что сказать.
В отдельных фрагментах романа «Кэрри» Стивен Кинг использует такой же подход:
«Мама была очень крупной женщиной, и она всегда носила шляпу. Последнее время у нее стали опухать ноги, и иногда казалось, что ступни выливаются через края туфель. На улице она носила тонкое черное пальто с черным меховым воротником. Голубые глаза выглядели за стеклами двухфокусных очков без оправы просто огромными. Она всегда брала с собой черную сумку, где лежали обычно кошелек для мелочи, бумажник (оба черные), большая Библия (тоже в черном переплете) с ее именем, отштампованным на обложке золотом, и пачка религиозных буклетов, стянутых резинкой. Буклеты были, как правило, в оранжевых обложках и с очень плохой печатью».
Автор мастерски пользуется деталями: «казалось, что ступни выливаются через края туфель»… «с ее именем, отштампованным на обложке золотом».
Возможно, вам приходилось слышать, что в хорошей литературе автор «невидим», и будь он самим Господом Богом, ему следует оставаться бесстрастным, не проявляя себя. Это не просто псевдоправило, но и очень вредный совет, который часто слышат начинающие писатели. Сказать по правде, я и сам давал его в книге «Как написать гениальный роман». Автор (рассказчик) не должен оставаться незаметным. Все что угодно, только не это. Маколей и Ланнинг в работе «Приемы создания художественного произведения» (1987) выразили эту мысль следующим образом: «Рассказчик как посредник имеет обыкновение игнорировать планы автора и обретает собственную неповторимую индивидуальность. В лучших произведениях художественной литературы без этого не обходится». Вы поняли: без этого не обходится?
Личность рассказчика в романе Достоевского «Преступление и наказание» буквально прорывается сквозь ткань повествования. Вот как автор описывает своего главного героя, Раскольникова:
«Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться… А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромною ломовою лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» — и заорал во все горло, указывая на него рукой, — молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его».
Рассказчик явно всеведущ как Бог во всем, что касается его персонажа и города, а его личность проявляется в проникнутом глубокой симпатией описании чувств главного героя: «он менее всего совестился своих лохмотьев на улице… другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами…», «не стыд, а совсем другое чувство… охватило его». Роман написан так, словно автор знал этого человека лично и переживает за него всей душой.
Чуть дальше, после встречи главного героя со старухой-процентщицей, Раскольников потрясен собственными страшными мыслями. Содрогаясь от отвращения к себе, он заходит в грязную распивочную и заказывает стакан пива:
«Тотчас же все отлегло, и мысли его прояснели. «Все это вздор, сказал он с надеждой, — и нечем туг было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря, — и вот, в один миг, крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое все это ничтожество!..» Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих».
Рассказчик знает, когда герой освобождается от «ужасного бремени», несмотря на «презрительный плевок». Такого рассказчика едва ли можно считать «незаметным».
То же самое относится к рассказчику в романе «Гордость и предубеждение»:
«Мистер Бингли вскоре перезнакомился почти со всеми присутствовавшими. Он был оживлен и любезен, участвовал в каждом танце, жалел о слишком раннем окончании бала и даже упомянул вскользь, что не мешало бы устроить бал в Незерфилде. Столь приятные качества говорили сами за себя. Как разительно отличался он от своего друга! Мистер Дарси танцевал только раз с миссис Хёрст и раз с мисс Бингли, не пожелал быть представленным другим дамам и весь остальной вечер провел, прохаживаясь по залу…»
Повествователя в книге Тома Вулфа «Костры амбиций» (1987) тоже трудно назвать невидимым:
«…В холле на каменном полу стоял на коленях Шерман Мак-Кой и старался пристегнуть поводок к ошейнику таксы. Пол был из темно-зеленого мрамора, он тянулся бесконечно во все стороны и доходил до широкой дубовой лестницы, которая одним великолепным изгибом вздымалась на целый этаж вверх. При одной мысли о подобной роскошной квартире любой житель Нью-Йорка, да, собственно, и всего мира, начинает корчиться на костре зависти и алчбы».[11]
Разумеется, тон повествования сатирический, однако здесь явно просвечивает личность рассказчика, который преподносит происходящее под собственным углом зрения: «корчиться на костре зависти и алчбы».
Повествователя Курта Воннегута в романе «Завтрак для чемпионов» никак не назовешь незаметным — у него есть собственное, вполне определенное мнение:
«Это рассказ о встрече двух сухопарых, уже немолодых, одиноких белых мужчин на планете, которая стремительно катилась к гибели.
Один из них был автором научно-фантастических романов по имени Килгор Траут. В дни встречи он был никому не известен и считал, что его жизнь кончена. Но он ошибся. После этой встречи он стал одним из самых любимых и уважаемых людей во всей истории человечества.
Человек, с которым он встретился, был торговцем автомобилями — он продавал автомобили фирмы «Понтиак». Звали его Двейн Гувер. Двейн Гувер стоял на пороге безумия».[12]
Рассказчик, который дает знать о своем присутствии, может создать особый, торжественный настрой одним лишь своим тоном. Возьмем рассказчика Клайва Баркера в «Сотканном мире»:
«Ничто никогда не начинается. Нет гневного момента или гневного слова, с которых можно было бы начать историю. Ее корни всегда восходят к другой истории, более ранней, и так до тех пор, пока ее исток не затеряется в веках, хотя каждая эпоха рассказывает ее по-своему.
Так освящается языческое, страшное становится смешным, любовь превращается в сантименты, а демоны — в заводных кукол».[13]
Обратите внимание, как тон повествователя создает ощущение, что история, которую он собирается рассказать, — бессмертная легенда, исполненная глубокого смысла.
И все же, комментируя собственное произведение, автор может зайти слишком далеко. Как говорят Маколей и Ланнинг в работе «Приемы создания художественного произведения»: «Современная трактовка… роли незримого повествователя порождена неприятием характерной для писателей ХVIII — ХIХ веков манеры постоянно вмешиваться в повествование. Такой прием называется «авторской вставкой» и используется, если автору собственной персоной вздумалось поболтать с читателем».
В этом смысле весьма показателен написанный в ХХ веке роман Джона Фаулза «Любовница французского лейтенанта», искусная имитация романа ХIХ века:
«Сэм в эту минуту обдумывал нечто прямо противоположное, а именно: сколь многое доступно пониманию той разновидности племени Евы, которую избрал своею спутницей он. Сегодня нам трудно представить себе пропасть, которая в те времена разделяла парня из лондонского Сэвен-Дайелза 115 и дочь возчика из глухой деревушки восточного Девона. Чтобы сойтись друг с другом, им нужно было преодолеть столько препятствий, как если бы он был эскимосом, а она — зулуской. Они и говорили-то почти на разных языках — так часто один не понимал другого».[14]