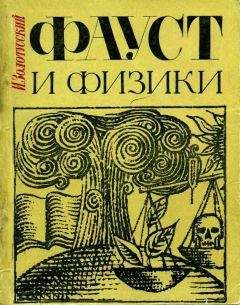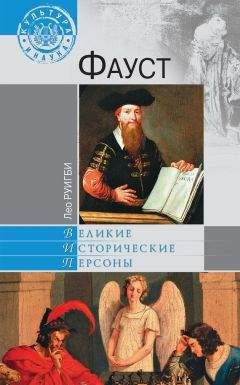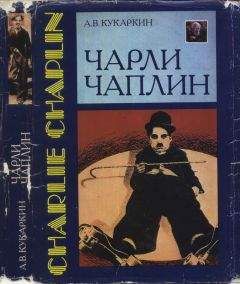И лишь в редкие минуты — в счастливые минуты близости с Еленой, в миг, когда Фауст встречает утро и сливается со всем сущим, — с ним нет черта.
Лишь в идиллической второй части, когда Фауст оказывается чуть ли не на пороге Аркадии, Мефистофель покидает его. Там, где Аркадия, черт, естественно, не может присутствовать.
Он — все-таки не идеальное, а материальное. И хотя он — дух, это дух, исповедующий факты. Это дух-материалист, дух-аналитик.
Фауст в трагедии тянется к синтезу. Мефистофель разрушает его.
Он действует при этом методом науки, ее инструментом. Он рассчитывает не на то, что должно быть. Он считается с тем, что есть.
Как только Фауст «отрывается от земли», он говорит ему: а вот факты.
Так говорит человеку и сама наука.
Она обостряет спор «материального» и «идейного» в человеке. В своем расщеплении она посягает и на «идеальное». Она наступает на него, как Мефистофель на Фауста, вооруженная фактами.
Даже искусство — высший продукт духа — кладется ею на прозекторский стол.
Наука вычеркивает «идеальное» из списка «тайн». То, что казалось человеку «высшим», оказывается по своему происхождению «низшим».
Но тем сильнее сопротивляется этому «идеальное», тем острей делается диалог Мефистофель — Человек.
Сама трагедия Гёте была голосом Знания, столкнувшегося в нем же с поэтическим ощущением мира. Поэт и ученый соединились в одном лице. Одной рукой был написан «Фауст» и научные трактаты Гёте.
Гармония и дисгармония, анализ и синтез столкнулись в одной душе, в одной жизни, в целом человеке.
Из этого противоречия, из этой все усиливающейся схватки (Гёте предчувствовал ее усиление) и родился «Фауст».
Он был книгой времени и исповедью, философской драмой и трагедией жизни.
Он был спором, продолжающимся в бесконечность.
Ибо, в самом деле, где в пьесе конец?
Желание конца столкнулось с иронией Гёте. Конца не было, хотя кончалось действие и ставилась точка.
Идеал оставался надеждой, искомым, а не найденным. Гёте вынужден был перенести его на «тот свет», на небо, в даль воображения, где продолжался «Фауст».
В трагедии нет конца, потому что бесконечен человек, потому что бетсонечно то, что стремится к концу, — мышление и жизнь.
Есть выход — но не конец, есть лишь понимание человеком себя, понимание, влекущее за собой новые вопросы.
Фауст у Гёте неисчерпаем. Он так же загадочен, как природа, тайны которой он старается постичь. Он так же неожидан. Он так же движется, влекомый неизвестностью мира и мира в себе.
Так человек диктует Гёте, как писать о нем.
Вот почему эта книжка о физиках привела нас к Гёте, — вопрос «как» привел к Фаусту.
Задав его себе, мы пришли к человеку.
Никто не может сказать за писателя, как он напишет свою книгу. Да и сам он узнает это только тогда, когда станет писать ее.
Но никто не изменит и того, что писать он будет все о том же. Предметом его изображения остается человек.
Человек остается, и на него направлены объективы искусства. И его глазами смотрят они на мир.
Человек изменился — кто скажет, что это не так? Он не тот, что был при Гёте. И он человек же.
Переменились Фаустовы отношения с природой. Обострилась драма сознания и драма обстоятельств. Старое стало из-за этого обострения новым. Но в сердце «новых» проблем мы находим «старые» вопросы.
В статье одного ученого я прочитал: «В необычной ситуации невесомости, когда человек, вопреки земному опыту, парит в пространстве и не падает, привычные ассоциации могут лишь явиться источником ошибок.
Особенно трудно преодолевать подобные ассоциации, которые сложились в мышлении.
Так все, что идет наперекор «здравому смыслу», представить трудно, а здравый смысл подсказывает: время, отсчет его всегда неизменен, высокая температура — жарко, низкая — холодно.
Да, наше мышление сковано подобными представлениями. Освободиться от них бывает весьма трудно.
Только великие поэты сбрасывают порою вериги «здравого смысла». Раскованное мышление генальных поэтов позволяет им разглядеть истину там, где другие пока слепы. Они интуитивно проникают туда, куда только через некоторое время в результате титанической работы удается пробиться гению ученого.
Александр Блок писал:
Нам казалось, мы кратко
блуждали.
Нет, мы прожили долгие жизни…
Возвратились — и нас не узнали,
И не встретили в милой отчизне.
И никто не спросил о Планете,
Где мы близились к юности
вечной…
Это написано в 1904 году. За год до публикации Эйнштейном частной теории относительности. За несколько лет до того, как на основе этой теории появилось представление о парадоксе времени. Как Блок мог это реально представить и пережить — непостижимо!
А вот в наше время, когда космические стихи идут потоком, поэты часто повторяют общие заблуждения. Интуиция обманывает их! И особенно часто это происходит в случаях, когда они переносят свой земной опыт в описание космоса».
Вот почему мы вновь и вновь возвращаемся к «старому», чтобы понять себя. Вот почему «новые» Гёте, невозможны без «старых», «новая» литература — без опыта «Фауста».
Не забудем, что и сам он вышел из множества Фаустов, «старых» Фаустов, которых вобрала в себя трагедия Гёте. Она не была повторением их, но они были отцами ее.
Как в прологе «Фауста», где директор, поэт и комик состязались в мнении, какой должна быть пьеса, истина не принадлежала ни одному из них, так не принадлежит она и этой книжке.
Голос «Фауста» — лишь один из голосов в споре. Он лишь дополняет хор истины.
Он напоминает: давайте оглянемся назад.
Не к возвращению назад зовет эта книжка. Не к повторению гётевского «кто» и «как».
Речь идет о принципе постижения человека…
Так же, как каждый из нас, стараясь объяснить себе свой «новый» поступок, обращается внутрь себя, к своему «прошлому», к своему «старому», так и искусство заглядывает внутрь себя. Ибо его «прошлое» — это мы.
И загляни мы сегодня не в Гёте, а в Толстого, Сервантеса, Достоевского, мы нашли бы ту же их «близость» к физикам, к нам самим.
Мы нашли бы там многое, казавшееся нам только сегодняшним, только сейчас возникшим, только нашим.
Мы часто ищем новое по одежке и принимаем новый костюм за новый образ мышления. В космическом скафандре нам преподносится заурядный «земной опыт», который без скафандра был бы просто ничто.
Скафандр, конечно, интересен. Я с удовольствием подойду, посмотрю, какие у него клапаны, как он устроен. Но внутри него — пустота! Без человека — он предмет техники. Через этот предмет я не познаю себя.
В сегодняшних сочинениях «про физиков» то и дело проглядывает этот скафандр. Он бьет в глаза оранжевой окраской, дивит своими винтами и клапанами. Но когда потрясешь его как следует, из него вылетает пыль. Так же как из бабушкиного сундука.
Вот почему Фауст, почти не притрагивавшийся к пробирке, дает мне больше знания о драме идей, чем сверхъядерщик из только что появившейся пьесы. И не потому, что Гёте — гений, а писатель, изобразивший ядерщика, — нет. Сравнение идет не по этой шкале. Просто Гёте пишет о человеке, а автор пьесы — о ядерщике.
Недавно на выставке я видел картину «Теоретики». Несколько очкариков в разных позах у исписанной мелом доски. Формулы, формулы, формулы… Задумчивые лбы, блеск очков, узкие брюки. Публика из вежливости стоит, ничего не находя, старается найти. Все-таки это физики.
Стоит вежливая публика, а стоять-то нечего. Ибо кроме узких брюк да, наверное, точно списанных формул — ничего нет.
Пишутся картины про физиков, ставятся пьесы. Ходят по сцене странные люди, говорят «квант», «эффект Допплера», «инвариантность». Лукавый режиссер чередует театр с кино, мысли вслух с мыслями про себя. А смотреть и читать это — скучно.
А где-то накапливается другое. Оно вырастает из старого, как новая трава из старых листьев. Где-то собирается по черточке новый Фауст — вовсе не Фауст, а кто-то другой. Может быть, безымянный, может, с именем. Он не «пересмотрит» старого Фауста, не отменит его. Ибо отменить Фауста — значит отменить человека.
Он что-то добавит к нему.
В трагедии «дух» и «душа» часто взаимозаменяют друг друга. Мефистофель стонет о духе, а ангелы уносят на небо душу Фауста. Или, как сказано в переводе Б. Пастернака, «бессмертную сущность Фауста».
В нашей книжке и «дух» и «душа» — это духовность. Это и творческие желания Фауста и человечность. В «духе» больше творческого, самолюбивого, умственного. В «душе» — сочувствие, добро, нравственность. По Гёте, они неотделимы друг от друга, их разделение временно, непрочно, противоестественно.