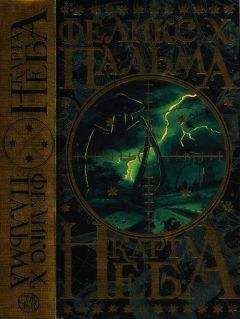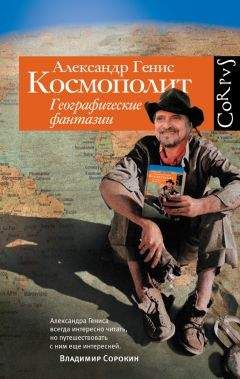Если «Капитанская дочка» могла служить отправной точкой «Зоны», то для своей лучшей книги Довлатов использовал самого Пушкина. «Заповедник» вылеплен по пушкинскому образу и подобию, хотя это и не бросается в глаза. Умный прячет лист в лесу, человека — в толпе, Пушкина — в Пушкинском заповеднике.
Довлатов изображает Заповедник русским Диснейлендом. Тут нет и не может быть ничего подлинного. Завод по производству фантомов, Заповедник заражает всю окружающую его среду. Поэтому встреченный по пути Псковский кремль напоминает герою «громадных размеров макет». По мере приближения к центру фальши сгущается абсурд. Иногда он материализуется загадочными артефактами вроде брошюры «Жемчужина Крыма» в экскурсионном бюро Пушкинских Гор.
Главный продукт Заповедника, естественно, сам Пушкин. Уже на первой странице появляется «официант с громадными войлочными бакенбардами». Эти угрожающие бакенбарды, как нос Гоголя, превратятся в навязчивый кошмар, который будет преследовать героя по всей книге: «На каждом шагу я видел изображение Пушкина. Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью „Огнеопасно!“. Сходство исчерпывалось бакенбардами».
Бесчисленные пушкины, наводняющие Заповедник, суть копии без оригинала, другими словами — симулякры (хорошо, что Довлатов этого не прочтет).
Единственное место в «Заповеднике», где Пушкина нет, — это сам Заповедник. Подспудный, почти сказочный сюжет Довлатова — поиски настоящего Пушкина, откроющего тайну, которая поможет герою стать самим собой.
Описываемые в «Заповеднике» события произошли, когда Сергею было тридцать шесть, но герой его попал в Заповедник в тридцать один год, вскоре после своего «тридцатилетия, бурно отмечавшегося в ресторане „Днепр“».
Почему же изменил свой возраст автор, любивший предупреждать читателя, что «всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный домысел — непредвиденным и случайным»? Думаю, потому, что тридцать один год был Пушкину, когда он застрял в Болдине. Совпадение это умышленное и красноречивое, ибо свое лето в Заповеднике Довлатов выстраивает по образцу Болдинской осени.
Заботливо, но ненавязчиво Сергей накапливает черточки сходства. Жена, которая то ли есть, то ли нет. Рискованные и двусмысленные отношения с властями. Мысли о побеге. Деревенская обстановка. Крестьяне — как из села Горюхина. Литература, сюжет которой, в сущности, пересказывает не только довлатовскую, но и пушкинскую биографию: «Несчастная любовь, долги, женитьба, творчество, конфликт с государством». Но главное, что «жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем». Ситуация карантина, своего рода болдинская медитативная пауза, изъяла героя из течения жизни. Поэтому, вернувшись в Ленинград, он чувствует себя как «болельщик, выбежавший на футбольное поле».
Трагические события «Заповедника» осветлены болдинским ощущением живительного кризиса. Преодолевая его, Довлатов не решает свои проблемы, а поднимается над ними. Созревая, он повторяет ходы пушкинской мысли. Чтобы примерить на себя пушкинский миф, Довлатов должен был не прочесть, а прожить Пушкина.
7
Легенда отличается от мифа, как сценарий — от фильма, пьеса — от спектакля, окружность — от шара, отражение — от оригинала, слова — от музыки.
В отличие от легенды, миф нельзя пересказать — только прожить. Миф всегда понуждает к поступку.
По-настоящему власть литературного мифа я ощутил, попав в страну, выросшую из цитат, — в Израиль. Подлинным тут считается лишь то, что упоминается в Библии. Ссылка на нее придает именам, растениям, животным, географическим названиям статус реальности. Не зря христиане зовут Палестину пятым Евангелием.
В Израиле миф сворачивает время, заставляя ходить нас по кругу. Здесь царит не история, а безвременье. Погруженная в пространство мифа жизнь направлена на свое воспроизводство.
Самым наглядным образом это демонстрирует хасидское гетто в иерусалимском квартале Меа-Шарим. Все детали местного обихода — от рождения до смерти, от рецептов до покроя — строго предписаны традицией. Поэтому тут нет и не может быть ничего нового. Каждое поколение углубляет колею, а не рвется из нее. Стены гетто защищают своих обитателей от драмы перемен и игры случая. Здесь никто ничего не хочет, потому что у всех все есть.
Обменяв свободу на традицию, растворив бытие в быте, жизнь, неизменная как библейский стих, стала собственным памятником.
Без остатка воплотив слово в дело, иерусалимские хасиды построили литературную утопию. В другой рай они и не верят.
Каждой книге свойственна тяга к экспансии. Вырываясь из своих пределов, она стремится изменить реальность. Провоцируя нас на действие, она мечтает стать партитурой легенды, которую читатели претворят в миф.
Так два века назад чувствительные москвичи собирались у пруда, где утопилась бедная Лиза.
Так их не более трезвые потомки ездят в электричке по маршруту Москва — Петушки, вооружившись упомянутым в знаменитой поэме набором бутылок.
Пушкинский заповедник в этих терминах — не миф, а карикатура на него: «грандиозный парк культуры и отдыха». Литература тут стала не ритуалом, а собранием аттракционов, вокруг которых водят туристов экскурсоводы — от одной цитаты к другой. Пушкинские стихи, вырезанные «славянской каллиграфией» на «декоративных валунах», напоминают не ожившую книгу, а собственное надгробие.
Присвоенный государством миф Пушкина фальшив, как комсомольские крестины. Ритуал не терпит насилия. Его нельзя насадить квадратно-гнездовым способом. Но и разоблачить ложный миф нельзя, его можно только заменить настоящим, чем не без успеха и занялся Довлатов. Мне рассказывали, что теперь молодежь приезжает в Заповедник, чтобы побывать не только в пушкинских, но и в довлатовских местах.
8
Лучшим детективом Честертон считал рассказ Конан Дойля «Серебряный», названный по кличке жеребца, убившего конюха. Соль в том, что имя преступника мы узнаем не в конце, а в самом начале — в заглавии.
С «Заповедником» — та же история. Как всегда у Довлатова, секрет лежит на поверхности. Дело в том, что Заповедник — не музей, где хранятся мертвые и к тому же поддельные вещи, изготовленные, как утверждал Сергей, неким Самородским. Заповедник — именно что заповедник, оградой которому служит пушкинский кругозор. Пока один Заповедник стережет букву пушкинского мифа, другой, тот, что описал Довлатов, хранит его дух.
Великая его особенность — способность соединять противоречия, не уничтожая, а подчеркивая их. Во вселенной Пушкина нет антагонизма — только полярность. Его мир шарообразен, как глобус. С Северного полюса все пути ведут к югу. Достигнув предела низости, пушкинские герои, вроде того же Пугачева, обречены творить не зло, а добро. Не аморализм, а проницательность стоит за пушкинскими словами, которые так любил повторять Довлатов: «Поэзия выше нравственности». Только сохранив в неприкосновенности неизбежную и необходимую, как мужчина и женщина, биполярность бытия, писатель может воссоздать мир в его первоначальной полноте, не расчлененной плоским моральным суждением.
В «Заповеднике» у Довлатова без конца допытываются, за что он любит Пушкина. Думаю, за то, что Пушкин не отвергал навязанные ему роли, а принимал их — все: «не монархист, не заговорщик, не христианин — он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом». Довлатов любил Пушкина за то, что в этом большом человеке нашлось место и для маленького человека, за то, что Пушкин, в котором «легко уживались Бог и дьявол», погиб «героем второстепенной беллетристики. Дав Булгарину законный повод написать: „великий был человек, а пропал, как заяц“».
Довлатовская книга настояна на Пушкине, как коньяк на рябине. Она вся пронизана пушкинскими аллюзиями, но встречаются они в нарочито неожиданных местах. Например, пошлая реплика кокетничающей с Довлатовым экскурсовода Натэллы: «Вы человек опасный» — буквально повторяет слова Донны Анны из «Каменного гостя». Оттуда же в довлатовскую книгу пришел его будущий шурин. Сцена знакомства с ним пародирует встречу Дон Гуана с Командором: «Над утесами плеч возвышалось бурое кирпичное лицо… Лепные своды ушей терялись в полумраке… Бездонный рот, как щель в скале, таил угрозу… я чуть не застонал, когда железные тиски сжали мою ладонь».
Важнее прямых аналогий — само пушкинское мировоззрение, воплощенное не в словах, а в образах — в героях «Заповедника», каждый из которых состоит из непримиримых, а потому естественных противоречий. На них указывает даже такой мимолетный персонаж, как украшающая ресторан «Витязь» скульптура «Россиянин». Творение отставного майора Гольдштейна напоминало «одновременно Мефистофеля и Бабу-Ягу».