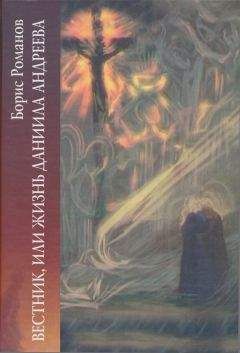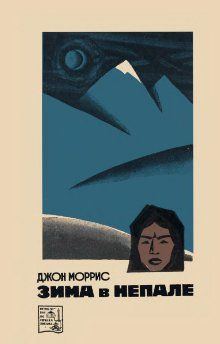По воспоминаниям соседки Добровых, когда в храме Покрова в Левшине служил патриарх Тихон, то обедал в семье Добровых.
Храм Покрова в Левшине. (Не сохранился.) 1913
Патриарх Тихон почти ежедневно служил в московских храмах, особенно часто в храме Христа Спасителя, в кремлевских храмах, в храмах Арбата. В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Левшине Святейший служил литургию трижды —12/25 сентября 1921 года, затем, уже после заключения (апрель — июнь 1923) во внутреннюю тюрьму ГПУ, 29 октября/11 ноября 1923 и 1 /14 декабря 1924 года[110]. И, конечно, на этих службах присутствовали домочадцы Добровых. Тетушки Даниила Елизавета Михайловна и Екатерина Михайловна, Феклуша — непременно. Кто-то из них мог быть и среди тех московских глубоко верующих женщин, которые самоотверженно поддерживали патриарха в дни его преследования властями и заключения в Донском монастыре. Они собирали средства для патриарха, содержали в Донском "специального человека, готовившего кушанье для Святейшего", дежурили под окнами заключенного. Охрана им грубо угрожала. Среди них, по свидетельству современницы, были "и интеллигентные, высокообразованные и безукоризненно воспитанные дамы, и старуха прачка, и "серые" бабы…"[111] За несколько дней до последней службы патриарха в Левшине зверски убили его келейника. На отпевании, как доносил агент ОГПУ, патриарх "выглядел… плохоболезненно… Бабы кудахтали, что он находится в самом плачевном материальном положении…"[112]
Всему этому Даниил Андреев не мог не быть свидетелем. В "Розе Мира" он написал о похоронах патриарха Тихона, вылившихся, по его словам, "в такую миллионную демонстрацию, что перед ней померкли все внушённые правительством и партией массовые изъявления горя, которые годом раньше поразили москвичей в дни похорон или, вернее, мумификации первого вождя". Патриарха Тихона он назвал среди тех, кто вошел в Синклит Небесной России.
О своем "втором озарении", произошедшим на Пасху 28–го года в храме Покрова, Андреев написал с документальной точностью. Оно произошло "после пасхальной заутрени на раннюю обедню: эта служба, начинающаяся около двух часов ночи, ознаменовывается, как известно, чтением — единственный раз в году — первой главы Евангелия от Иоанна: "В начале бе Слово". Евангелие возглашается всеми участвующими в службе священниками и дьяконами с разных концов церкви, поочерёдно, стих за стихом, на разных языках — живых и мёртвых. Эта ранняя обедня — одна из вершин православного — вообще христианского — вообще мирового богослужения. Если предшествующую ей заутреню можно сравнить с восходом солнца, то эта обедня — настоящий духовный полдень, полнота света и всемирной радости. Внутреннее событие, о котором я говорю, было, и по содержанию своему, и по тону, совсем иным, чем первое: гораздо более широкое, связанное как бы с панорамой всего человечества и с переживанием Всемирной истории как единого мистического потока, оно, сквозь торжественные движения и звуки совершавшейся передо мной службы, дало мне ощутить тот вышний край, тот небесный мир, в котором вся наша планета предстаёт великим Храмом и где непрерывно совершается в невообразимом великолепии вечное богослужение просветлённого человечества".
В рассказах поэта о своих озарениях есть нечто, отсылающее к трем видениям Владимира Соловьева. О них Андреев всегда помнил и подробно перечислил в "Розе Мира". Философ поведал о своих видениях кратко и не без иронии ("…факты рассказал, виденье скрыв") в поэме "Три свидания", отнюдь не ссылаясь на духовидческий опыт в своих софиологических построениях. Андреев, напротив, говорит об особом опыте, на котором и основываются его сочинения. Но отдельные прорывы, причем разных степеней, духовного сознания долго не складывались в целостную картину. Они оставались только свидетельствами мистической реальности, не дававшей ему той полноты постижения, к какой он так стремился. Но светлые видения к нему приходили, как правило, или рядом с православным храмом или в нем, во время церковной службы.
Гонения на православную церковь становились все беспощадней. Еще в 27–м году началась кампания по изъятию церковных колоколов. Под окрики властей и репрессии совершалось "богоотступничество народа". Особенно легко вовлекалась в антирелигиозную пропаганду молодежь. Участвовала в разрушении храмов, в глумлении над священниками. В шедшего по улице тихого монаха могли бросить камнем. Уже после Пасхи, в мае, ОГПУ провело аресты в Троице — Сергиевой лавре, примолкшей и разоренной. Арестовали отца Павла Флоренского. Нескрываемая вера в Бога легко становилась преступлением.
За днями дни… Дела, заботы, скука
Да книжной мудрости отбитые куски.
Дни падают, как дробь, их мертвенного стука
Не заглушит напев тоски.
Вся жизнь — как изморозь. Лишь на устах осанна.
Не отступаю вспять, не настигаю вскачь.
То на таких, как я, презренье Иоанна —
Не холоден и не горяч! —
это стихотворение написано в те дни 1928 года, когда Даниил Андреев вновь, и не в первый раз, искал себя, свое, иногда, казалось, находил, а потом опять терял.
Но обыденность настигала его каждодневно. Уйдя с литературных курсов, он считал себя обязанным чем-то, кроме писания, заниматься, приносить в дом, пусть небольшие, деньги — "на хозяйство". Издания отца мало что давали, к тому же он долго не мог вступить в права наследства. Судьбой Даниила были особенно удручены нежно его любившие тети — Екатерина Михайловна, в эти годы добровольно пошедшая работать в психиатрическую клинику, поскольку считала, что "душевнобольным помощь нужнее всего", и Елизавета Михайловна, мама Лиля, обремененная заботой обо всей большой семье. В письме к Вадиму она написала и об этом:
"…Я все-таки считаю, что вообще учиться Дане необходимо, а также необходимо привыкать к постоянным правильным занятиям, нельзя же считать правильной работой его писание, за которым, правда, он может просидеть целые сутки, а то другой раз сколько времени пройдет, прежде чем он сядет за работу. Ты сам пишешь и понимаешь, что по заказу эту работу делать невозможно.
Относительно нашей жизни могу сказать, что работаю столько, что больше невозможно. Семья у нас, как всегда, большая: нас двое, Шура с мужем, Саша с женой, Катя живет с нами вот уже пятый год, конечно, она помогает в работе; а также живет у нас одна сирота: отец ее четыре года тому назад случайно попал к нам да у нас и умер; осталось 9 детей, 8 из них благодаря одной энергичной женщине удалось устроить, а она так и осталась у нас; еще живет у нас Феклуша, которая ходила за маминой и бусинькиной могилами, а теперь живет у нас, т<ак>к<ак>ей некуда деваться. Вот так и живем, такой большой семьей. Сиротку зовут Фимочка. Фимочка с Феклушей тоже помогают в работе, т<ак>к<ак>прислуги мы не имеем, это очень для нас трудно. Катя у нас за повариху, а я за прачку, не говоря уже о том, что все заботы и хлопоты о жизни и по хозяйству всецело падают на мои плечи, так что должна тебе сказать, подчас бывает очень трудно"[113].
Еще труднее Елизавете Михайловне приходилось и с давно взрослым сыном, Александром. Высокий, красивый, голубоглазый — таким его запомнили соседки. Он получил диплом архитектора, но, переболев энцефалитом, работать по специальности не мог, стал художником — оформителем. Оформительской, шрифтовой работе он научил и Даниила. Работы хватало. Потребность у советской власти, у всех ее учреждений для разворачивания наглядной агитации оказалась огромной, не меньшей, чем у торговли в рекламе. С первой женой, Ириной, Александр через несколько лет расстался. Вино и кокаин он испробовал еще в гимназической юности. От наркомании позже удалось избавиться, но время от времени он запивал. При всем том, знавшие его, говорили, что Александр Добров был "порядочным и добрым человеком".
Врывавшиеся в обыденность отзвуки державных событий воспринимались обостренно, но осмыслялись не сразу 29 марта 1928 года страна с государственным размахом, организованным партийными директивами, отметила шестидесятилетие Горького, семь лет назад уехавшего из России. Он уезжал недовольный политикой большевиков, Лениным, уставший бессильно протестовать против арестов и расстрелов, защищать интеллигенцию. Но оторваться от бывших "союзников" не удалось, как ни пытался он сохранить свою независимость. С воцарением Сталина все планомерней писателя стали опутывать незаметной, липкой паутиной: переписка перлюстрировалась, визитеры из СССР подсылались, контролировались, инструктировались… Юбилей всемирно известный писатель отметил за границей. А в конце мая неожиданно сел в берлинский поезд и приехал в Москву. Приезд "пролетарского писателя" стал пышным советским торжеством. Пришвин записал в дневнике: "Юбилей его сделан не обществом, не рабочими, крестьянами, писателями и почитателями, а правительством, совершенно так же, как делаются все советские праздники. Правительство может сказать сегодня: "целуйте Горького!" — и все будут целовать, завтра скажет: "плюйте на Горького!" — и все будут плевать<… >Юлия Цезаря так не встречали, как Горького<… >Юбилей этот есть яркий документ государственно — бюрократического послушания русского народа…"[114]