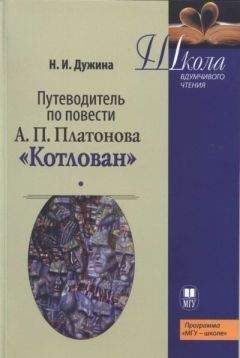При анализе отрывков, в которых упоминаются ключевые слова мысли ап. Павла жить, двигаться, существовать, нужно учитывать еще одно свойство платоновской прозы — развивать основную тему в нескольких ключах, что относится и к теме движения. Дело в том, что у этой темы был обширный политический контекст, представленный многочисленными утверждениями Ленина и Сталина о движении к социализму, его развитии и ускорении, а также политической фразеологией, основанной на идее «пролетарского движения», о чем речь шла в предыдущем разделе нашей работы. Этот контекст тоже представлен в «Котловане»: «А истина полагается пролетариату? — Пролетариату полагается движение» (71) и др. Столкновение этих двух контекстов — библейского и современного политического — приводит к наложению их и внутреннему конфликту, который проявляется в том, что Вощев «тоже хотел двигаться, но с живыми, а не мертвыми глазами».
С вопросом об истине в «Котловане» связана и проблема ее познания. Узнать истину хочет прежде всего Вощев, но что-то этому мешает. В том же самом вычеркнутом фрагменте текста, на который мы уже многократно ссылались (эпизод с профуполномоченным), осталось такое загадочное объяснение неспособности героя познать истину: «Я предчувствую свои корни в середине целой земли и потому вижу свое право иметь весь мир как свое тело <…> Но стоит против этого какое-то громадное и темное стеснение, и оно занимает ровно половину истины» (182). Нечто подобное — какое-то стеснение или стена, в которую упирается познающее мир сознание — мешает до конца познать природу и Прушевскому:
«Инженер Прушевский уже с двадцати пяти лет почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни, будто темная стена предстала в упор перед его ощущающим умом. И с тех пор он мучился, шевелясь у своей стены, и успокаивался, что, в сущности, самое срединное, истинное устройство вещества, из которого скомбинирован мир и люди, им постигнуто, вся насущная наука расположена еще до стены его сознания, а за стеною находится лишь скучное место, куда можно и не стремиться. Но все же интересно было — не вылез ли кто-нибудь за стену вперед. Прушевский еще раз вышел за стену барака и поглядел, согнувшись, по ту сторону на ближнего спящего <…>» (33).
В последнем отрывке, кроме его гносеологической проблематики, интересно еще и то, как Платонов соединяет сюжетную ситуацию — стоящий у стены барака инженер — с философской проблематикой повести: какая-то «стена», т. е. преграда, помеха, которая мешает познающему субъекту видеть и познавать мир. По поводу проблемы познания следует сказать, что это — постоянный мотив платоновского творчества; постоянен и образ некой помехи на пути познающего сознания или же простого восприятия окружающего мира — своеобразная «броня» из забот или же другая «заслона» на сердце. В «Котловане» никакой мотивировки этого образа нет: есть признание «стены», или «темного стеснения», которые мешают видеть и понимать — и все. Но любопытно вот что. Познание истины — одна из основных тем в работе П. Флоренского «Столп и Утверждение Истины», с которой, как мы уже говорили, Платонов в какой-то степени, вероятно, был знаком. Решение, которое Флоренский предлагает по вопросу о познании истины, своеобразно перекликается и с платоновским образом «стены», или «стеснения» сознания, а также «заслоны» на сердце в других его произведениях; в «Столпе» находит и своего рода объяснение неспособность ученого Прушевского до конца познать мир. Флоренский говорит о недостаточности познания рассудочного и необходимости познания духовного. Основной же помехой на пути познания о. Павел считает своего рода броню на сердце: «сердце словно окружило себя твердой корой. Оно живо, но — за стенами». Причиной такой закрытости человеческого сердца для познания Флоренский считает грех: «Грех есть то средостение, которое Я ставит между собой и реальностью, — обложение сердца корою»[171]. Грех же он понимает прежде всего как самолюбие: «Я=Я», или точнее «Я!». П. Флоренский пишет об очищении сердца как условии всякого познания и о любви, которая способствует этому очищению. О возможности познания Платонов прямо не говорит ничего. Финал повести, когда Вощев поцеловал умершую Настю и истина как будто открылась ему («он узнал больше того, чем искал»), — загадочен, в том числе и в вопросе о причинах этого знания.
До сих пор мы почти ничего не говорили о главном герое «Котлована» — искателе истины и собирателе «вещественных остатков потерянных людей» Вощеве. А между тем в системе персонажей «Котлована» он занимает особое место. По функции в повести его называют иногда «медиатором», т. е. героем, служащим для связи сюжета произведения, и только. Однако с такой трактовкой этого персонажа едва ли можно согласиться. Мы уже писали о том, что Платонов придает Вощеву некоторые автобиографические черты: герою столько лет, сколько Платонову; он, как и сам писатель, потерял работу; он направляется в Город юношеской мечты писателя. Те вопросы, с которыми Вощев проходит через все произведение, тоже являются авторскими: что есть истина и в чем причина жизни и смерти — во всех значениях этих слов. Вопрос о смерти волнует героя (и автора) прежде всего в связи с массовой гибелью современных людей, а также превращением еще живых в «мертвые души» и «прах». Он спрашивает всех об истине и собирает в мешок «под видом ветоши» «души умерших», в том числе и советские «мертвые души» — не желающих оставаться в колхозе крестьян, от которых Сталин отрекся, назвав их «мертвыми душами». Отправляясь в духовное путешествие по советской действительности, герой (а в его лице и автор, болеющий за жизнь и душу своего народа) прежде всего хочет понять, как спасти оказавшихся в беде людей. В этом своем желании он уподобляется героям раннего платоновского творчества.
Именно поэтому в образе Вощева, кроме биографического сходства и идейного родства с самим Платоновым, исследователи отмечают черты, относящие его к определенной группе платоновских персонажей — так называемых «героев-спасите-лей». Данный тип героя появляется уже в ранней платоновской прозе — это упомянутые нами инженеры и «преобразователи мира», ищущие средства спасения от жизненных невзгод (страданий, болезни и смерти, природных стихий и т. д.), с помощью знания и техники пытающиеся приспособить природный мир к нуждам и потребностям человека. Эту разновидность платоновских персонажей исследователи[172] связывают с образом Иисуса Христа — Божественного Спасителя, своей мученической смертью искупившего грех мира и даровавшего людям возможность бессмертия. Героев-«спасителей» раннего платоновского творчества тоже волнует проблема бессмертия, но речь о душе народа в их программе не идет и сравнивать их с Христом можно только с учетом общих реформаторских установок молодого Платонова и его переосмысления всего Евангелия, о чем подробно мы уже писали.
В образе Вощева определенные евангельские реминисценции тоже есть. Ввиду важности данной проблемы для всего творчества Платонова и связи ее с поисками истины и пути «спасения народа» — ниточкой надежды в полном пессимизма «Котловане» — остановимся на этих реминисценциях более подробно и приведем их по наблюдениям А. Харитонова. Прежде всего это уже упомянутый нами мотив 30-летия — «возраста духовной зрелости», который объединяет Вощева не только с автором повести или лирическим героем Данте, но и с Христом, в 30 лет вышедшим на проповедь. Кроме того, Вощев ищет истину, которая в сознании человека, воспитанного на христианской культуре, ассоциируется с Евангелием — Благой вестью о спасении. В словах Вощева: «Скучно собаке; она живет благодаря одному рождению, как и я» (22), — есть прямая аллюзия на слова Христа о возможности второго, духовного рождения («если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»: Ин. 3: 3). Эта аллюзия характеризует не собаку — «природного члена параллели», а героя. «Он, человек, живет как тварь, не познавшая добра и зла, — благодаря одному, т. е. первому, рождению — плотскому, физическому, но не духовному»[173]. Один из первых эпизодов «Котлована», сцена в завкоме в преддверии пути Вощева в поисках истины, перекликается с евангельским эпизодом «искушения хлебами» — событием земной жизни Спасителя перед выходом его на проповедь. Постившийся 40 дней Христос взалкал, и дьявол попытался соблазнить его: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Мф. 4: 3). Уволенный за думу о «душевном смысле» Вощев, испугавшись голода, приходит в завком, где героя пытаются переубедить: «Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла». Христос не поддается искушению: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Вощев тоже не отказывается от своей думы об истине: «Без думы люди действуют бессмысленно!» Противопоставление двух понятий, которыми «испытывают» Вощева в завкоме — «душевный смысл» и «материализм» —, позволяет рассматривать их как альтернативу «хлеба духовного» и «хлеба земного». Вощев выбирает «душевный смысл» и выдерживает испытание. Затем он идет «в мир» со своей проповедью истины и необходимости ее для души человека и производительности его труда. В описании духовной жажды героя и его тоски по истине содержится намек на одну из евангельских заповедей блаженства: «блаженны алчущие и жаждущие правды». Изгнание же его, вопрошающего об этой истине, отовсюду — из завкома, пивной, дома шоссейного надзирателя (последний эпизод Платонов вычеркнул на самой последней стадии правки машинописи) — заставляет вспомнить о другой заповеди блаженства: «блаженны изгнанные за правду». В последующем поведении Вощева есть черты библейского пророка, ассоциирующиеся и с проповеднической деятельностью Христа.