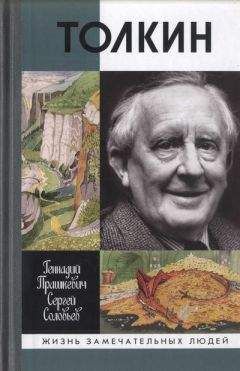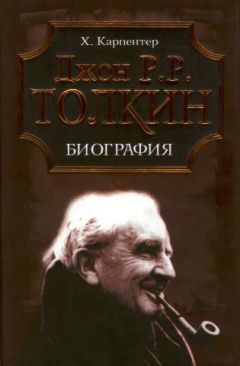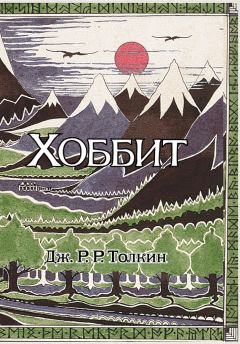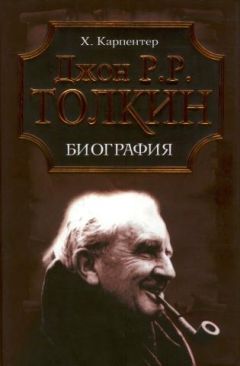В конечном счете сомнения Толкина были сомнениями глубоко верующего человека, который, подобно Иову, пытается разглядеть Божественный замысел в кажущихся бессмысленными страданиях и смерти.
Расстались Смит и Толкин более или менее примиренные. В последний день, когда им удалось встретиться, они даже пообедали в Бузенкуре в компании капитана Уэйд-Джери (оксфордского дона-поэта). Во время обеда неожиданно начался артобстрел — война не давала о себе забыть ни на минуту. Спор продолжался и после расставания — в нем принял участие и Уайзмен. Через пару недель после расставания с Толкином Смит переслал ему длинное письмо от Уайзмена; в нем были такие строки:
«Как бы то ни было, я — ЧКБО-ист; я надеюсь достичь величия и, если на то будет Господня воля, — известности в своей стране; и в-третьих, в любом величии, которого мне удастся достичь, ты и Дж. Р. будете неразрывно связаны со мной, поскольку я не верю, что смогу достичь этого без вас. Я верю, что мы сейчас продолжаем наше дело, и вовсе не в отсутствие Роба; мы продолжаем его вместе с Робом. Это вовсе не бессмыслица, хотя у нас нет причин считать, что Роб до сих пор принадлежит ЧКБО. Но я верю, что нас объединяет нечто вроде того, что Церковь называет Общением Святых…»[133]
Конечно, эмоционально Смит и Толкин были очень разными людьми.
Глубокая печаль чувствуется в одном из последних стихотворений Смита:
Поговорим о ласковых глазах,
Челе высоком, этом храме знанья,
О тех, под небом вечера, садах,
Где вчетвером искали пониманья.
Не надо слов про эту кровь и пот,
Про вой снарядов, шум и ярость боя,
Мы видели, как Смерть на нас идет,
Волною набегая за волною.
Давайте сядем, сядем хоть втроем,
В тепле перед пылающим камином,
Пускай ярится буря за окном,
И ярости конца ее не видно,
Тогда и он, четвертый, тот, кто лег
За морем в безымянную могилу —
Воронки, покалеченный лесок, —
Бойцов оставит, что война скосила,
И к нам вернется ради памяти святой —
Навеки смысл связал нас обретенный,
И связей этих силе никакой
Не оборвать и до конца вселенной[134].
Бои теперь велись с меньшей интенсивностью, чем в первые дни битвы на Сомме, но британцы по-прежнему несли тяжелые потери, и многие из 11-го батальона тоже погибли. Чередовались выходы на передовую и паузы в тылу, всегда — недалеко от фронта, который не давал о себе забыть ни на минуту ночными зарницами, звуками канонады, а то и дальнобойным снарядом.
Во время отводов в тыл и даже в землянке на передовой Толкин пытался работать над стихами: например, над поэмой «Кортирион среди деревьев». Время на войне течет по-особому: то, что было несколько дней назад, завтра может казаться совсем другой эпохой. Как писал Эдмунд Бланден, один из участников боев на Сомме: «Старая Британская Линия уже казалась освященной веками. Она принадлежала такому же глубокому прошлому, как стены Трои. Казалось, что черепа, на которые иногда натыкались лопаты, остались тут с незапамятных времен; есть что-то упрямо древнее в этих черепах»[135].
Толкину постоянно везло, но чем больше времени он проводил в окопах, тем больше было шансов стать очередным покойником. Спасла его «гипертермия неизвестного происхождения», которую солдаты между собой называли «окопной лихорадкой», — заболевание, переносимое вшами и вызывающее высокую температуру и другие неприятные и тяжелые симптомы (скорее всего, речь шла о сыпном тифе). Толкин не избежал болезни и в пятницу 27 октября, когда 11-й батальон стоял в Бовале, был доставлен в ближайший полевой госпиталь. На следующий день его погрузили в санитарный поезд, идущий на побережье, и в воскресенье 29 октября вечером он уже оказался в госпитале в Ле-Туке, где провел всю следующую неделю.
Однако и после первого лечения лихорадка не отпустила его. В итоге 8 ноября больного посадили на корабль, идущий в Англию. А по прибытии срочно отправили поездом в Бирмингем, куда к нему приехала Эдит. (Пока Толкин был во Франции, она отмечала все его передвижения на карте, которая висела на стене ее комнаты.) В госпитале Толкина догнало письмо Смита: «Оставайся подольше в Англии. Ты знаешь, я страшно боялся, что тебе пришел конец. А теперь я просто счастлив»[136].
К третьей неделе декабря Толкин оправился достаточно, чтобы выписаться из госпиталя и поехать в Грейт-Хейвуд. Там он написал маленькую балладу, в которой чувствуется глубоко личная интонация, редкая для его стихов:
Скажи, о, девушка, скажи,
Чему ты улыбаешься?
Мост в Тавробеле стар и сер,
Солдаты возвращаются.
Я улыбаюсь, ты же сам
Идешь ко мне навстречу.
А я ждала, ждала, ждала,
Боялась, не замечу.
Здесь в Тавробеле все не так,
Мой сад почти что высох,
В заморских бился ты краях,
А здесь темно и тихо…
Я был так долго вдалеке,
За дальними морями,
Не знал, вернусь живым иль нет,
И что же будет с нами…[137]
Он надеялся провести в Грейт-Хейвуде тихое Рождество с женой, но именно там его нашло другое письмо — уже от Кристофера Уайзмена.
«16 декабря 1916 года.
Дорогой Джон Рональд!
Только что получил вести из дома: Дж. Б. Смит скончался от ран, полученных при взрыве снаряда третьего декабря. Я сейчас не могу говорить об этом. Смиренно молю Господа Всемогущего, чтобы стать достойным его…»[138]
Джеффри Смит шел по деревенской улице позади боевых позиций, когда неподалеку взорвался снаряд. Лейтенанта ранило в правую руку и бедро. Он сам сумел дойти до госпиталя. Его оперировали, но развилась газовая гангрена. Итог был вполне предсказуем — Смита похоронили на британском кладбище в Варланкуре. Незадолго до гибели он написал Толкину: «Мое главное утешение (если меня сегодня ухлопают): на свете останется хотя бы один член великого ЧКБО, который облечет в слова все, о чем я сам мечтал и на чем мы все сходились. Ибо я твердо уверен, что гибелью одного из его членов существование ЧКБО все же не закончится. Смерть может сделать нас отвратительными и беспомощными, но ей не под силу положить конец нашей бессмертной четверке! Да благословит тебя Господь, мой дорогой Джон Рональд, и пусть ты выскажешь в будущем все то, что всеми силами пытался сказать я…»[139]
11
Как правило, спасительные функции организма по-настоящему включаются в дни самые тяжелые, грозные. Ничего удивительного, что именно в январе 1917 года во время медленного выздоровления в Грейт-Хейвуде Толкин начал самый первый вариант своей великой (он сам так называл ее) «Книги утраченных сказаний», которая со временем превратилась в «Сильмариллион».
«…пусть ты выскажешь в будущем все то, что всеми силами пытался сказать я…»
Слова погибшего друга никогда Толкин не забывал — они звучали в нем как безмолвный призыв не забыть, продолжить дело Великих Близнецов.
Впрочем, вряд ли это дело казалось ему тогда каким-то конкретным.
Главное, он работал. Работал, прорываясь сквозь собственные смутные мысли.
Даже окончательные выправленные автором строки «Сильмариллиона» многим казались и кажутся тяжелыми, и все же практически каждый чувствует в них особенную красоту. Кристальную красоту слов, как сказал бы сам Толкин. Хотя, конечно, кристаллы асбеста ничем не напоминают кристаллы алмаза.
Уже первая глава «Книги утраченных сказаний» («Песнь айнуров») прозвучала программно:
«Был Эру, Единый, что в Арде зовется Илуватар; и первыми создал он Айнуров, Священных, что были плодом его дум; и они были с ним прежде, чем было создано что-либо другое. И он говорил с ними, предлагая им музыкальные темы; и они пели перед ним, и он радовался. Но долгое время каждый из них пел отдельно или по двое-трое вместе, а прочие внимали: ибо каждый понимал лишь ту часть разума Илуватара, из коей вышел; и плохо понимали они своих братьев. Однако, внимая, они начинали понимать друг друга более глубоко, и их единство и гармония росли…»
Конечно, мы не можем утверждать, что в сознании Толкина постоянно жили слова его друзей — Великих Близнецов. В конце концов, он сам написал: «Если величие, которое со всей отчетливостью мы подразумевали (подразумевали как нечто большее, нежели только святость или только благородство), и в самом деле — удел ЧКБО, то смерть одного из членов нашего клуба — это не более чем жестокий отсев тех, кто для величия не был предназначен».
А отсев уже происходил.
Вот только что звучали чудесные голоса Айнуров. Только что, подобно арфам и лютням, скрипкам и трубам, виолам и органам и чудесным бесчисленным поющим хорам, они начали обращать тему Илуватара в единую великую музыку — и вдруг всё жестоко оборвалось: