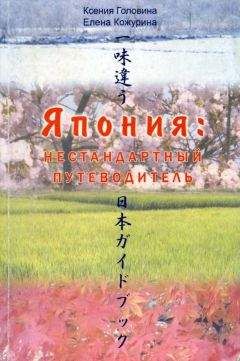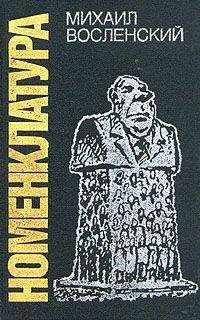Во всех примерах связь черноты с пустотой выражена вполне отчетливо словами пусто, в пустотах, две черных дыры, жерлом.[7] В самом раннем из цитируемых стихов — «Бороды цвета кофейной гущи…» — образ черной пустоты мотивируется наиболее подробно, в оксюмороне полное грусти, || Пусто. Абстрагирование признака черных глаз, который, казалось бы, мог восприниматься как конкретный признак, характерный для восточных черноглазых людей, дается здесь через несовпадение грамматической формы числа существительных: конкретность обозначена множественным числом — бороды цвета кофейной гущи, а абстракция — единственным: черное око. Абстрагированию сочетания черное око способствует и употребление слова высокого стиля — традиционного поэтизма око. В третьем примере сочетание две черных дыры отчетливо противопоставлено цветообозначению глаз — лазурные, не менее, впрочем, абстрактному в свете его фольклорной семантики. Далее (4) уже никаких объяснений, связанных с пустотой, не дается, однако на нее указывает не только образ жерла, но и слово дымящие: жерло может дымить только после выстрела, значит, этим причастием выражено значение опустошенности после максимальной заполненности и стремительного смертоносного движения. В пятом примере представлен резкий цветовой оксюморон в черных пустотах твоих красных даже без объяснения, что речь идет о глазах. Тем не менее парадоксальность словосочетания вполне объясняется изображаемой сценой: в черных глазах героя виден отблеск огня, и этот отблеск интерпретируется Цветаевой как отражение, знак страсти ее лирического субъекта («Мой это бьет красный лоскут»). Поэтому образ черной пустоты, способной к отражению огня-страсти, близок по значению к образу белой бумаги из стихотворения «Я — страница твоему перу…», т. е. черное синонимизируется с белым по признаку пустоты как готовности к заполнению (ср. «Чернозем — и белая бумага»): черное как максимально полное в цветаевской системе цветообозначений сближается с белым как максимально пустым.
Все значения, связанные с образом черных глаз, представленные в цитированных примерах из разных стихов, сконцентрированы в одном стихотворении — «Глаза»:
Два зарева! — нет, зеркала! Нет, два недуга! Два серафических жерла, Два черных круга
Обугленных — из льда зеркал, С плит тротуарных, Через тысячеверстья зал Дымят — полярных.
Ужасные! Пламень и мрак! Две черных ямы. Бессонные мальчишки — так — В больницах: — Мама!
Страх и укор, ах и аминь… Взмах величавый… Над каменностию простынь — Две черных славы.
Так знайте же, что реки — вспять, Что камни — помнят! Что уж опять они, опять В лучах огромных
Встают — два солнца, два жерла, — Нет, два алмаза! — Подземной бездны зеркала: Два смертных глаза (С., 164–165).
Существенно, что появление пламени в черноте преобразует мрак в свет: слава, лучи, два солнца, зеркала, — смертельное страдание приводит к преодолению смерти бессмертием.
На фоне всех текстов, в которых черные глаза представлены как образ бездны и смерти, становятся хорошо понятны строки:
Я вижу тебя черноокой, — разлука! Высокой, — разлука! — Одинокой, — разлука!
С улыбкой, сверкнувшей, как ножик, — разлука! Совсем на меня не похожей — разлука! (С., 145).
Употребление слова черный и его производных в контекстах, связанных с утратой и страданием, хоть и создает в ряде случаев неожиданные словосочетания (черноокая разлука, в черных пустотах твоих красных), но, тем не менее, вполне определенно опирается на традиционную символику черного как цвета скорби. Традиционно и мифологично также изображение черным пространства, уходящего вниз, углубления. Окказиональным в цветаевской поэтике является соединение этой символики с образом черных глаз.
Оппозиция «черное — красное» тоже связана у Цветаевой с традиционной символикой жизни и смерти:
Слышу страстные голоса —
И один, что молчит упорно.
Вижу красные паруса —
И один — между ними — черный (С., 89);
От румяных от щек —
Шаг — до черных до дрог!
Шелку черный шнурок,
Ремешок-говорок! (С., 188).
Однако символика красного сама может быть амбивалентно связана и с жизнью, и со смертью через образы крови и разрушительного огня: наиболее интенсивное проявление жизни приводит к ее уничтожению. Проанализируем последнюю строфу из стихотворения «Пригвождена к позорному столбу…»:
Сей столб встает мне, и не рокот толп —
То голуби воркуют утром рано…
И, все уже отдав, сей черный столб
Я не отдам — за красный нимб Руана! (С., 139).
«Красный нимб Руана» здесь — костер, на котором была сожжена Жанна Д'Арк. Тот же образ костра, соединенный с образом крови, представлен в стихотворении «Руан»:
Не ждите, принц скупой и невеселый,
Бескровный принц, не распрямивший плеч, —
Чтоб Иоанна разлюбила — голос,
Чтоб Иоанна разлюбила — меч.
(…)
А за плечом — товарищ мой крылатый
Опять шепнет: — Терпение, сестра! —
Когда сверкнут серебряные латы
Сосновой кровью моего костра (С., 108).
В стихотворении «Пригвождена к позорному столбу…» позорный столб («черное»), т. е. орудие гражданской казни, и инквизиторский костер («красное») выступают как обрядовые эквиваленты, так же как и в мировой истории. Но у каждого из этих синонимов в цветаевском тексте имеется своя семантическая отнесенность к понятию высшей ценности — страсти. В обоих случаях имеется в виду казнь за страсть: героиня Цветаевой казнена за недозволенную земным законом любовь, Жанна Д'Арк — за страсть к Франции, к воинскому долгу. В обоих случаях казнимые, по утверждению Цветаевой, святы, так как освящены самой страстью: «Я утверждаю, что во мне покой || Причастницы перед причастьем» и «красный нимб Руана». Но в стихотворении «Пригвождена к позорному столбу…» Цветаева из двух страстей-ценностей провозглашает более святой страсть грешной любви, противопоставляя ее девственности Жанны Д'Арк. И поэтому черное и красное, сначала синонимически сближенные, разводятся затем до полярно противоположных символов. Противопоставление тех же понятий греховности и невинности в цветаевской интерпретации — относительности их нравственной оценки — хорошо представлено в стихах об Артемиде, в поэме-сказке «Царь-Девица», в трагедии «Федра» и других произведениях.
Оппозиция «белое — красное» не имеет такого ярко выраженного характера, как описанные выше. Белый и красный цвет в разнообразных его оттенках часто обозначаются у Марины Цветаевой не как члены противопоставления, а в дополнении друг к другу, создавая цветовые образы, эмоционально окрашенные положительно. Это связано прежде всего с традиционной народной эстетикой, проявляющейся и в прикладном народном искусстве, например одежде, и в фольклоре, и в языковом развитии, например при образовании переносных значений у слов белый и красный (Колесов 1983):
Плывет Царь-мой-Лебедь
В перстнях, в ожерельях.
Кафтан — нет белее,
Кушак — нет алее… (И., 390);
«…Али ручки не белы?»
— В море пена белей! —
«Али губки не алы?»
— В море зори алей! (И., 343).
Вместе с тем традиционная народно-поэтическая синонимия белого и красного является в поэзии М. Цветаевой отправной точкой для построения совершенно определенных парадигматических отношений в цветообозначении, имеющих свою семантику в соответствии с мировоззрением поэта. Наиболее полно цветаевская семантика белого и красного отражена в стихотворном цикле «Георгий», в поэме «На красном коне», в поэме-сказке «Молодец».
Центральные цветовые образы цикла «Георгий» (С., 166–173) — красный плащ Георгия Победоносца и его белый конь — цветовые доминанты известной иконы «Чудо Георгия о змие». Семантическое наполнение слова красный и слов, обозначающих оттенки красного, на протяжении семи стихотворений цикла постоянно меняется. В начале первого стихотворения дано четкое обозначение красного как цвета героя и белого как цвета коня. При этом красное и белое одновременно противопоставляются и взаимно дополняют друг друга: «И плащ его был — красен, II И конь его — был — бел».[8] Далее красный цвет детализируется в образах крови и огня и — как символ героического — подвергается нравственной переоценке. Красным обозначена пасть змея:
На дохлого гада
Белейший конь
Взирает вполоборота.
В пол-ока широкого
Вслед копью
В пасть красную — дико раздув ноздрю —
Раскосостью огнеокой (С, 166).
Важно, что композиционной основой всего цикла является психологическая антитеза: Георгий Победоносец — образ героя, смущенного кровопролитием, а конь воплощает в себе гордость победителя: