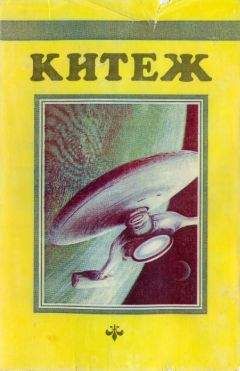Не подписываю я своего имени потому, что не в имени дело. Пусть мой голос прозвучит так же, как не умирающая, вечно бодрствующая человеческая совесть…»
Письмо это, высокопарное и нравоучительное, смахивает на провокацию. Еще больше усиливаются подозрения, когда читаешь второе письмо того же автора — адресованное на сей раз Черткову:
«Владимир Григорьевич… С прискорбием я должен заметить, что факт Вашего денежного союза с убийцами начинает косвенно отражаться и на настроении посетителей Ваших бесед; и наиболее вдумчивые из них проникаются более чем недоумением по поводу совершаемого Вами поступка… Принадлежа к частым (я не могу сказать — постоянным) посетителям собрания Общества истинной свободы и прислушиваясь к разговорам между слушателями, я могу отметить, например, такое суждение одного лица:
— Как же это так, — говорило одно лицо другому, — Владимир Григорьевич сам указывал не раз, что большевики являются врагами всего русского народа и их ненавидит народ, за исключением разве убийц и воров, — а теперь он сам вдруг заключает договор с этими врагами народа и даже подыскивает оправдание своему поступку. Интересно, что сказал бы на это Лев Толстой?..
И вот что отвечал собеседник:
— Я думаю, что Владимир Григорьевич не заключил бы договора, если бы его к тому не вынуждали материальные обстоятельства. Жить–то всем хочется, и расходы огромные, а где же денег наберешься? Вот и приходится идти на службу к большевикам…
Сколько в этих двух суждениях горькой правды или неправды, предоставляю судить Вам самому. По–видимому, союз с убийцами и отвратительными развратителями не может пройти бесследно ни для кого, — даже для тех, у кого щитом служит чистое имя Льва Николаевича Толстого».
И стиль поведения «Пуританина» — то он жаловался на Черткова Булгакову, а теперь доносит самому Черткову на его слушателей, — и стиль выражений, пристрастие к громким словам: «враги народа», «чистота», «совесть» (известно, кто первым кричит «Держи вора!»), и прокурорская обличительность, и маска псевдонима, страх назвать свое имя, — все это не внушает доверия. Собрать толстовцев в Политехническом музее, в двухстах метрах от Лубянки, и провести открытый референдум об их отношении к советской власти — кому такое может прийти в голову? Не самой ли Лубянке — чтобы одним махом засветить своих врагов!
Сверху на письме сделана приписка: «Сообщается Софье Андреевне для сведения»… Значит, неутомимый «Пуританин» хотел привлечь к своему протесту против издания сочинений Толстого с помощью большевиков и его вдову? Ловкий ход, если учесть, что Софья Андреевна и Чертков издавна, еще при жизни Толстого, открыто не любили друг друга и соперничали в праве распорядиться его творческим наследием.
События вокруг Ясной Поляны и семьи Толстого власть предержащих обеспокоили. В усадьбу пожаловал со своей свитой сам председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин.
Сначала Татьяна Львовна не хотела к нему выходить.
— Пусть он идет к черту! — в сердцах сказала она. — Я его не приму…
Но, поразмыслив, все–таки решила, что будет лучше, если толстовский дом покажет она, а не «батюшка–благодетель» Сергеенко или кто–нибудь из комиссаров.
Калинин к себе располагал: умный, спокойный, с простым мужицким лицом. С интересом обо всем расспрашивал, потом расположился вместе со всеми на террасе пить чай. Разговаривали откровенно и дружелюбно. Зашла речь о войне.
— Мы победим, — сказал Калинин. — Если не сейчас, так все равно в конце концов весь мир придет к этому.
— Может быть. Но не благодаря, а несмотря на вашу войну, — не удержалась дочь Толстого.
Спор затянулся, гость все никак не хотел уходить, хотя его ждали на каком–то сходе.
— А ведь вот мне приходится подписывать смертные приговоры, — сказал, будто оправдываясь.
— А вы не делайте этого. Никто вас не обязал это делать.
— А как же быть, когда, например, узнаешь о целой организации шпионов?
— Не знаю. Вероятно, главе правительства надо приговаривать их к смерти, — отвечала Татьяна Львовна. И простодушно заключила: — Но ведь вы можете не быть главой правительства…
Быть может, она вспомнила в этот момент мысль своего отца о том, что лучшие люди избегают участия во власти и что лучше жить под самой свирепой властью, чем самому властвовать.
Сцена чаепития на террасе была запечатлена для истории. Вместе с Калининым приехал кинематографический аппарат. И пленка до сих пор хранится в литературном музее. Жаль только, что разговора с Татьяной Львовной на ней нет: кино еще было немое. Да и ей не хотелось попадать в кадр; когда они разговаривали, Татьяна Львовна вязала веревочные подошвы к туфлям и, едва аппарат направили на нее, опустилась на корточки, спряталась за стул и не поднялась, пока аппарат не умолк. Случилось это непроизвольно, и неясно, что ею владело: смущение или нежелание войти в историю в дружеском общении с главой большевистского правительства…
А вскоре в усадьбе Толстого произошел «дворцовый переворот». После очередного скандала с Сергеенко решительная Александра Львовна, выведенная из себя его хамством, отправилась к Луначарскому. Тот принял ее в необычном положении: он позировал скульптору. Поднявшись навстречу и поздоровавшись, снова принял неподвижную позу.
Александра Львовна изложила ему суть происходящего в Ясной и закончила так:
— Мне кажется, что Ясная Поляна должна быть не советским хозяйством, а музеем, как дом Гёте в Германии…
Вдруг Луначарский вскочил и забегал по комнате, стремительно, театральным голосом диктуя сидящей здесь же стенографистке. И не успела ошеломленная гостья прийти в себя, как держала в руках бумагу о назначении ее… комиссаром Ясной Поляны! А нарком снова застыл в прежней позе.
Против такого мандата Сергеенко не устоял. Графиня–комиссар выселила его из владений Толстого.
28 марта 1920 года Александра Львовна возвращалась в Москву из Ясной Поляны. С трудом удалось втиснуться в вагон, в котором раньше перевозили скот, а теперь плотной, потной массой стояли измученные люди, чесались от вшей, переругивались и опасливо прижимали к себе вещи. Хотелось спать, а заснуть было нельзя…
Вот и Москва. Дикая давка. На плечах — тяжеленный мешок с мукой. Казалось: сил осталось, только чтобы добраться до дома, подняться на второй этаж — и рухнуть в постель…
И вот она у своей двери. А на двери — печать ВЧК…
Что делать? Пошла к соседям, решила позвонить секретарю Президиума ВЦИК Авелю Енукидзе, которого знала лично и который к ней благоволил.
— Кремль! Говорит комиссар Ясной Поляны!..
Голос кремлевского грузина был непривычно сух:
— Сотрудники ВЧК сейчас будут у вас…
Александра Львовна пишет в книге воспоминаний, что к ней приехал с двумя военными какой–то щуплый молодой человек, поразивший ее своей внешностью: в бархатной куртке, бледный, томный, с вьющимися каштановыми волосами до плеч. На недоуменный вопрос представился:
— Художник–футурист.
— И… чекист?
— Да, и сотрудник ЧК.
В ордере на арест, хранящемся в следственном деле, указана его фамилия — Любохонский. Художника такого мы не знаем, так что ему суждено остаться в памяти в качестве чекиста. Подписал ордер другой «художник» — бывший беллетрист, а теперь глава Особого отдела ВЧК Менжинский.
В первом часу ночи Александру Львовну допрашивали на Лубянке. Только тут она узнала, за что арестована.
Как–то друзья попросили у нее разрешения провести в квартире, где размещалось Толстовское общество и жила она сама, какое–то собрание. Что это было за собрание, она толком не знала, понимала, что политическое, но вопросов не задавала, а когда входила в комнату угостить чаем, все замолкали.
Теперь оказалось, что она — соучастница опасных преступников, деятелей антисоветского Тактического центра, искоренением которого занималась ВЧК.
Перед ней сидел в мягком кожаном кресле уполномоченный Особого отдела Яков Агранов и тряс пачкой бумаг:
— Сознавайтесь. Вот показания ваших друзей, они уже подтвердили ваше участие в деле. Нет смысла отпираться. Назовите ваших сообщников!
Агранов просто брал ее на пушку. Теперь мы можем заглянуть в эти бумаги, которые были у него в руках, — выписки из протоколов допросов.
«В квартире Толстой я был на одном совещании… С ней ни в каких, ни в деловых, ни в личных отношениях не состоял. На совещании она не присутствовала…» (Д. М. Щепкин).
«Действительно, первое заседание Тактического центра… происходило на квартире у Александры Толстой в Мерзляковском переулке. А Толстая на заседании Центра не была. Больше на заседаниях в этой квартире я лично не был, и были ли там собрания, не знаю…» (С. М. Леонтьев).