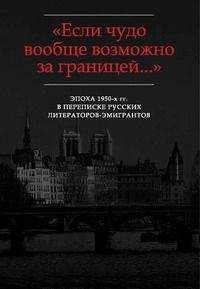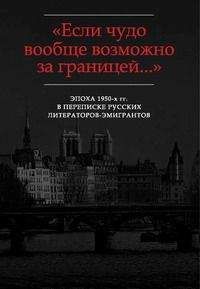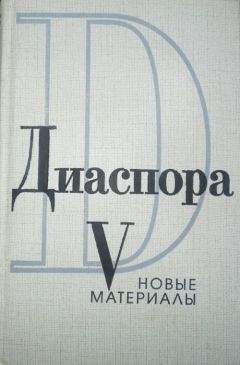Вы пишете: «не будьте со мной чересчур скупы». Я не скуплюсь, но не знаю, какие мнения и суждения мои Вам были бы интересны. Едва ли Вам чужие суждения нужны, да кроме того, Вы и окружены людьми, которые, вероятно, могут Вам le cas echeant[59] быть полезны.
Всего хорошего. Крепко жму руку. Я здесь во всяком случае до 20 мая, а вероятно, и дольше — до 1 июня.
Ваш Г. Адамович
P. S. Если еще не поздно: в моей статье переписчица написала «l’age de fer». Конечно, надо «du fer»[60]. Я это только вчера случайно в копии заметил.
13. Г.В. Адамович — Р.Н. Гринбергу
Manchester 14 104, Ladybarn Road 1
9/V-53
Дорогой Роман Николаевич.
Я через несколько дней кончаю свои университетские дела в Манчестере и уезжаю в Париж. Так что если будете писать — или что-либо посылать — адресуйте, пожалуйста, в Париж: 53, rue de Ponthieu, Paris 8е. В июле я, вероятно, поеду на юг, но парижский адрес остался в силе до конца сентября[61].
Вышли ли «Опыты»? Если нет, скоро ли выйдут?[62] И вообще, что в «опытных» делах нового? Буду очень рад, если как-нибудь напишите.
Вы меня рассмешили сообщением, что я — «самый радостный человек на свете». Может быть, Вы и правы, по сравнению с нашими отечественными сверх-меланхоликами. Но comparaison n’est pas raison[63].
«Комментарии» и стихи пришлю. Стихи — когда угодно (в смысле срока), а комментарии, скажем, — в середине августа. Идет? Если нет, сообщите. Буду аккуратен и пришлю к назначенному Вами сроку. Но думаю, что 15 августа — срок вполне приемлемый. По моим давним наблюдениям, второй номер журнала — как и вторая книга писателя — самый важный. В первом все как будто для парадного случая, для первого впечатления и т. д. Настоящая жизнь начинается со второго выпуска, и только в нем чувствуется, есть ли эта жизнь, будет ли она. Хорошо было бы «Опытам» на этом экзамене особенно отличиться!
Где Вы проводите лето?
Крепко жму руку и прошу передать сердечный привет и поклон Софье Михайловне.
Ваш Г. Адамович
14. Р.Н. Гринберг — Г.В. Адамовичу
Суббота, 23.5.53
Дорогой Георгий Викторович,
Получил Ваше письмо от 19/5, — как всегда, с радостью.
«Опыты» вышли. Я Вам их выслал 14-го, разумеется, в Манчестер, а теперь не знаю, получите ли. Известите меня перед самым Вашим отъездом, дошли ли они до Вас.
Принимают их с интересом. Первая рецензия появится завтра, пишет Аронсон. Сами понимаете, восторга быть не может, — не такой дядя. Мы с ним в приятных отношениях, но я не поместил его статьи, которая показалась мне чересчур газетной. Он, понятно, обиделся. Его социал-демократическая тренировка не научила его к непосредственному чтению: кто автор важнее, нежели то, что автор пишет. Споры с ним, как Вы знаете, бесполезны. Завтра прочтем[64]. Задолго до выхода он мне звонил и спрашивал, кого бы я хотел в критика; я отвечал, что безразлично мне, кто именно, но буду надеяться, что в статье рецензент не станет сводить личные счеты с нами, с издателем (этого я особенно опасаюсь: Вы знаете, Мар<ия> Сам<ойловна> Цетлина «на плохом» счету у Вейнбаума) и редакторами. Посмотрим.
А так целые дни звонит телефон. Хвалят гораздо больше, чем ругают. До чего противоположны мнения — передать трудно. Никто ни на чем не сходится. Ясно, что Вы, Георгий Викторович, — центральная вещь. Самая взрывчатая статья, беспокойная. О ней нет спокойного слова. И это ценнее всего, для меня по крайней мере. Вейдле[65] сонлив, говорят. Стихи — ну что ж? — всюду одинакие. Предисловие (мой седьмой пот) всеми принят как заповедь. Да есть ли читатель, кто умеет читать и сможет понять? — спрашивают. На Иваске[66] сходятся все злые языки! Недопустимый бред, скандал, не чувствуется редакторской руки, взашей и пр.[67] Поплавский у бытовиков (их в Америке пруд пруди) не имеет успеха. Вообще, проза прошла более или менее, к моему удивлению. Понятно, Ремизов[68] — никто, — это я, я говорю. Он у нас, потому что Всеволод Леон<идович> его превозносит выше наших небоскребов. Последний вообще тих и незаметен по состоянию здоровья, на вид (Вы его помните?) сосуд скудельный, а по характеру, если не обижать его мальчиков, очарование.
Не пугайтесь внешности «Опытов», если они напомнят Вам самого себя лет 20 тому назад (догадайтесь, о чем это я? Не скажу[69]); направление наше, однако, другое. Совсем другое и серьезное, которое и будет защищаться. Вчера было собрание у Шмемана[70] о книге Янов<ского>[71]. Я не пошел, у меня было другое дело. Я знаю, что в газете завтра появится В/о[72]. Восторженная[73], с чем мне трудно мириться. Буду о ней писать критически[74] — не разрушительно. Сам он невозможный ходатай-писатель, поднявший гром и молнию во имя признания: подумайте, я пожертвовал всем во имя писательства, — так он говорит каждому. Верно и героически прекрасно, но пишет он не ахти[75]. Тесно, потно от слов, и кругом такой условный мир, в который поверить невозможно. Не люблю и неаппетитные претензии «все сказать» чужими (французскими) приемами (нужно это похерить навсегда, не правда ли?). Я признаю за ним талант, и не маленький, но думаю, что его резонерство, охота к наставлению фальшиво и смахивает на «домогательство». Довольно.
Мар<ия> Сам<ойловна> Цетлина едет в Париж 5-го, везет Ваш гонорар. Позвоните ей: Трокадеро 26–06, рю Николо, 5, — сделайте. Чуть было не послал денег в вашу Англию, которую больше ценю, нежели люблю.
Всего доброго, привет друзьям в Париже!
Ваш
СТИХИ пришлите сейчас же! А «Комментарии» не позднее 10 (а не 15) АВГУСТА.
15. Г.В. Адамович — Р.Н. Гринбергу
10/VII-53
4, avenue Emilia
с/о M-me Lesell
Nice (A. M.)
Дорогой Роман Николаевич.
Прежде всего хочу Вам объяснить, почему до сих пор не написал Вам ничего об «Опытах». Вы их мне послали в Манчестер. Вероятно, там они и лежат. Я уехал до их получения, письма мне пересылают, а книжки — читают сами. В Париже мне дал «Опыты» на несколько дней Маковский. Кто-то немедленно их у меня утащил. Bref[76], я только перед отъездом сюда, в Ниццу, получил их от Лиды Червинской — и только вчера и третьего дня прочел их полностью. <Приписка на полях:> Я здесь до начала сентября.
Вы выразили желание узнать мое мнение о журнале. Исполняю Ваше желание и надеюсь не быть зачисленным в разряд критиков непрошеных, которых, вероятно, не мало.
В общем — bravo! Журнал хороший, «культурный» (что par le temps qui court[77] ценно), а если еще не вполне себя нашедший, то может ли быть иначе? Будут — и уже были — упреки в снобизме и эстетизме. Упрек был бы значителен (и кое в чем, м. б., даже обоснован), если бы не исходил от людей, которым кажется снобизмом все, что не от «сохи», во всех смыслах. Очень русский тип, увы! Человек, плохо моющий руки, злится, что у другого руки чистые.
Во вступительной статье много бесспорного и не без задора сказанного. C’est tres personnel[78], даже чуть-чуть слишком для редакционного вступления. Но повторяю — все верно, кроме неясной и будто умышленно уклончивой фразы, начинающейся словами: «Дальше мы писали…» Что это за «родственные идеи и взгляды»?[79] Здесь, т. е. в Париже, были об этом разговоры и разные толкования. Кое-кто испуган. Надо бы успокоить умы.
Украшение «Опытов», лучшее, что в них есть — Поплавский. Я в этом так абсолютно уверен, что не понимаю, как можно с этим спорить. Аронсон иронизировал: «Поплавский — явление!» Вето раз больше явление, чем Ремизов, который, в сущности, графоман и плут, не лишенный, конечно, способностей. «Ап<оллон> Безобразов» явно недоработан, но уровень, человеческий и словесный, этой вещи таков, что я просто ахал, читая. Не слушайте, ради Бога, Ваших местных ди-пи-бытовиков, и если есть у Вас еще Поплавский, печатайте его без колебаний. Рано или поздно это «Опытам» зачтется. Головиной все очарованы, и правда — ее отрывок прелестен[80]. Но ведь рядом с П<оплавским> это — розовая водичка, только и всего! А вот Ив. Савин[81] — даже и не водичка. Он, вероятно, был далеко не бездарен, но дурной стиль, дурной вкус, дурная школа — в каждой строчке. Признаюсь, меня удивило предисловие к нему, с комплиментами. Лучше было бы предоставить читателям самим решить, чего рассказ стоит. Стихи есть всякие, и очень хорошие, и средние — кроме совершенно невозможного Буркина[82]. Кто это? Как он к Вам попал? Статьи тоже есть всякие; как и полагается. Но, по-моему, в таком журнале, как «Опыты», статьи — самое важное. Не следует ли увеличить их место за счет беллетристики (если только нет вещей первоклассных в беллетристике)? Стихи нужны непременно — потому, что их в других местах только терпят, забывая, что русская поэзия была половиной всей русской культуры.