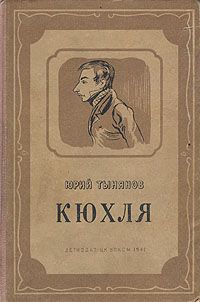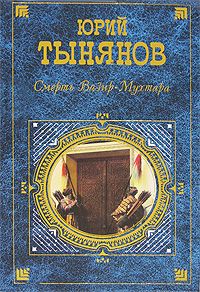Отсюда же другая тяга — взять прицел слова на вещь, как-то так повернуть и слова, и вещи, чтобы слово не висело в воздухе, а вещь не была голой, примирить их, перепутать братски. Вместе с тем это естественная тяга от гиперболы, жажда, стоя уже на новом пласте стиховой культуры, использовать как материал XIX век, не отправляясь от него как от нормы, но и не стыдясь родства с отцами.
Здесь миссия Пастернака[472].
Пастернак пишет давно, но выдвинулся в первые ряды не сразу — в последние два года[473]. Он был очень нужен. Пастернак дает новую литературную вещь. Отсюда необычайная обязательность его тем. Его тема совершенно не высовывается, она так крепко замотивирована, что о ней как-то и не говорят.
Какие темы приводят в столкновение стих и вещь?
Это, во-первых, самое блуждание, самое рождение стиха среди вещей.
Отростки ливня грязнут в гроздьях
И долго, долго до зари
Кропают с кровель свой акростих,
Пуская в рифму пузыри.[474]
Слово смешалось с ливнем (ливень — любимый образ и ландшафт Пастернака); стих переплелся с окружающим ландшафтом, переплелся в смешанных между собою звуками образах. Здесь почти "бессмысленная звукоречь", и однако она неумолимо логична; здесь какая-то призрачная имитация синтаксиса, и однако здесь непогрешимый синтаксис[475].
И в результате этой алхимической стиховой операции ливень начинает быть стихом[476], "и мартовская ночь и автор"[477] идут рядом, смещаясь вправо по квадрату "трехъярусным гекзаметром", — в результате вещь начинает оживать:
Косых картин, летящих ливмя
С шоссе, задувшего свечу,
С крюков и стен срываться к рифме
И падать в такт не отучу.
Что в том, что на вселенной — маска?
Что в том, что нет таких широт,
Которым на зиму замазкой
Зажать не вызвались бы рот?
Но вещи рвут с себя личину,
Теряют власть, роняют честь,
Когда у них есть петь причина,
Когда для ливня повод есть.
Эта вещь не только сорвала личину, но она "роняет честь".
Так создались у Пастернака "Пушкинские вариации". Ставшего олеографичным "смуглого отрока" сменил потомок "плоскогубого хамита", блуждающий среди звуков:
Но шорох гроздий перебив,
Какой-то рокот мёр а мучил[478].
Пастернаковский Пушкин, как и все его стиховые вещи, как чердак, который «задекламирует»[479], - рвет с себя личину, начинает бродить звуками.
Какие темы самый удобный трамплин, чтобы броситься в вещь и разбудить её? — Болезнь, детство, вообще, те случайные и потому интимные углы зрения, которые залакировываются и забываются обычно.
Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, — а слова
Являются о третьем годе.
Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря,
Так будут начинаться ямбы.
Так начинают жить стихом.[480]
Делается понятным самое странное определение поэзии, которое когда-либо было сделано:
Поэзия, я буду клясться
Тобой, и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты — лето с местом в третьем классе,
Ты — пригород, а не припев.[481]
Это определение мог бы сделать, пожалуй, только Верлен, поэт со смутной тягой к вещи.
Детство, не хрестоматийное «детство», а детство как поворот зрения, смешивает вещь и стих, и вещь становится в ряд с нами, а стих можно ощупать руками. Детство оправдывает, делает обязательными образы, вяжущие самые несоизмеримые, разные вещи:
Галчонком глянет Рождество.[482]
Своеобразие языка Пастернака в том, что его трудный язык точнее точного, — это интимный разговор, разговор в детской. (Детская нужна Пастернаку в стихах для того же, для чего она была нужна Льву Толстому в прозе.) Недаром "Сестра моя — жизнь" — это в сущности дневник с добросовестным обозначением места ("Балашов") и нужными (сначала для автора, а потом и для читателя) пометками в конце отделов: "Эти развлечения прекратились, когда, уезжая, она сдала свою миссию заместительнице", или: "В то лето туда уезжали с Павелецкого вокзала".
Поэтому у Пастернака есть прозаичность, домашняя деловитость языка — из детской:
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.[483]
Языковые преувеличения у Пастернака тоже из детского языка:
Гроза моментальная навек.[484]
(В ранних вещах эта интимная прозаичность была у Пастернака другой, напоминала Игоря Северянина:
Любимая, безотлагательно,
Не дав заре с пути рассесться,
Ответь чем свет с его подателем
О ходе твоего процесса.[485])
Отсюда и странная зрительная перспектива, которая характерна для больного, — внимание к близлежащим вещам, а за ними — сразу бесконечное пространство:
От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, лавиной вернуся.[486]
То же и болезнь, проецирующая «любовь» через "глаза пузырьков лечебных"[487].
То же и всякий случайный угол зрения:
В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.
Поэтому запас образов у Пастернака особый, взятый по случайному признаку, вещи в нем связаны как-то очень не тесно, они — только соседи, они близки лишь по смежности (вторая вещь в образе очень будничная и отвлеченная); и случайность оказывается более сильною связью, чем самая тесная логическая связь.
Топтался дождик у дверей
И пахло винной пробкой.
Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.[488]
(Эти полуабстрактные «прописи» как член сравнения стоят в ряду у Пастернака с целым словарем таких абстракций: «повод», "право", «выписка» любопытно, что он здесь встречается с Фетом, у которого тоже и «повод», и «права», и «честь» в неожиданнейшем сочетании с конкретнейшими вещами.)
Есть такое явление "ложной памяти". С вами разговаривают и вам кажется, что все это уже было, что вы сидели когда-то как раз на этом месте, что ваш собеседник говорил как раз это же самое, и вы знаете наперед, что он скажет. И ваш собеседник, действительно, говорит как раз то, что должен. (На деле, конечно, наоборот — собеседник говорит, а вам в это время кажется, что он когда-то сказал то же самое.)
Нечто подобное с образами Пастернака. У вас нет связи вещей, которую он дает, она случайна, но, когда он дал ее, она вам как-то припоминается, она где-то там была уже — и образ становится обязательным[489].
Обязательны же и образ, и тема тем, что они не высовываются, тем, что они стиховое следствие, а не причина стихов. Тема не вынимается, она в пещеристых телах, в шероховатостях стиха. (Шероховатость, пещеристость признак молодой ткани; старость гладка, как биллиардный шар.)
Тема не виснет в воздухе. У слова есть ключ. Ключ есть у «случайного» словаря, у «чудовищного» синтаксиса[490]:
Осторожных капель
Юность в счастье плавала, как
В тихом детском храпе
Наспанная наволока.[491]
И само «свободное» слово не виснет в воздухе, а ворошит вещь. Для этого оно должно с вещью столкнуться: и сталкивается оно с нею — на эмоции. Это не голая, бытовая эмоция Есенина, заданная как тема, с самого начала стихотворения предлагающаяся, — это неясная, как бы к концу разрешающаяся, брезжущая во всех словах, во всех вещах музыкальная эмоция, родственная эмоции Фета.
Поэтому традиции, вернее, точки опоры Пастернака, на которые он сам указывает, — поэты эмоциональные[492]. "Сестра моя — жизнь" посвящена Лермонтову, эпиграфы на ней — из Ленау, Верлена; поэтому в вариациях Пастернака мелькают темы Демона, Офелии, Маргариты, Дездемоны. У него даже есть апухтинский романс:
Век мой безумный, когда образумлю
Темп потемнелый былого бездонного?[493]
Но прежде всего — у него перекличка с Фетом[494].
Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться![495]
Не хочется к живым людям прицеплять исторические ярлыки. Маяковского сравнивают с Некрасовым. (Сам я нагрешил еще больше, сравнив его с Державиным, а Хлебникова — с Ломоносовым.)