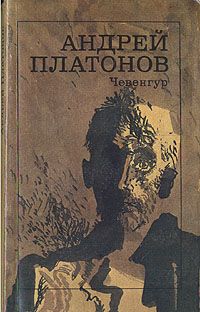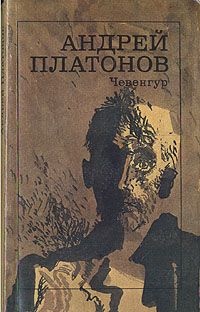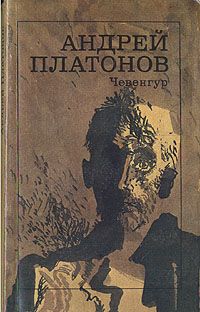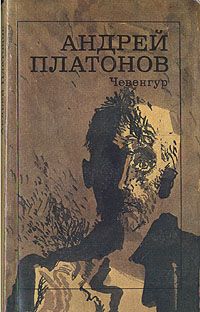В пространственном отношении устремленность в будущее у Платонова часто находит свое метафорическое выражение в горизонтальном движении «вдаль», куда в поисках истины социализма стремятся его бродяги и искатели, руководствуясь непосредственной потребностью в беспрерывном странствовании. Что касается движения вниз и вглубь, то в контексте логики реализации утопии оно оказывается крайне амбивалентным, поскольку — как демонстрирует «Котлован» — в той же мере может обозначать возвращение в «вещество существования» и движение в «пропасть» и могилу.
Понимание утопического как интеллектуальной конструкции у Достоевского соответствует жанрообразующему образцу Томаса Мора. У Платонова же мы имеем дело с другой традицией — с хилиазмом, который проявился в истории средневековых еретических движений, в апокалиптике русского сектантства и старообрядчества. Чужого влияния, западной подоплеки у Платонова нет: даже Карл Маркс или Роза Люксембург в «Чевенгуре» полностью вовлечены в духовный мир русского народа. В отличие от героев Достоевского, с остроумной проницательностью обсуждающих социальные теории, персонажи Платонова выступают в качестве простых «народных философов». В произведениях Достоевского споры затрагивают интеллектуальные догмы социалистических учений — у Платонова эти идеи предстают в форме верований простого народа.
Если Достоевский твердо уверен в том, что существует панацея от демонических сил, то у Платонова уже нет ясного распознания добра и зла и, что еще важнее, нет метанойи. Его наивные или «юродствующие» герои непоколебимо идут своим путем, и автор сопровождает их на этом пути, не дистанцируясь от них. У Достоевского православный «народ-богоносец» объявляется главной опорой в борьбе с интеллигентским обманом, у Платонова же народ оказывается носителем стихийных хилиастических энергий.
Надо иметь в виду, что у обоих авторов принципиально различается и исторический контекст трактовки утопии. Достоевский, находившийся у порога рождения и распространения социально-утопических идей в России, провидчески предугадывает последствия этих учений. Платонов же появляется в эпоху, когда «конец истории», к которому стремились хилиасты, якобы совершился и когда революционный импульс начинает угасать. Если Достоевский берет на себя роль предупреждающего пророка, то Платонов оказывается мучеником утопической идеи, идущим со своими героями до самого трагического конца.
Платонов, который никогда не отказывался полностью от надежды на возможность создания лучшего мира, не мог не спорить, имплицитно и эксплицитно, с принципиальным скептицизмом Достоевского. Отсюда в «Чевенгуре» иронический образ Федора Достоевского, который задумал кампанию самоусовершенствования граждан путем их переименования и, не зная «вещей и сооружений», представлял социализм в виде общества «хороших людей»[42]. По той же причине Платонов даже в тридцатые годы хвалит «истинный оптимизм»[43] и доверие к будущей жизни Пушкина и не может примириться с мнением Достоевского, «что дело с человеческой жизнью на земле не получится»[44]. В своей трактовке вопроса утопии классик занимает более универсальную точку зрения, но заслуга Платонова в том, что он сумел дать уникальное художественное изображение движущих сил революционного порыва России в XX веке.
3. «Котлован» и Вавилонская башня
Утопия и антиутопия, включая различные промежуточные формы более амбивалентного характера, в принципе обладают одним и тем же репертуаром мотивов и одной жанровой памятью. Поэтому можно говорить о едином когерентном семантическом поле утопической проблематики, в котором полемически сталкиваются противоположные оценки. Развитию этого тезиса посвящен настоящий анализ мотива дома-башни в повести «Котлован». Проекция платоновского текста на фон утопической традиции, с одной стороны, бросает свет на некоторые аспекты функционирования утопического поля, а с другой — углубляет наше понимание произведения Платонова.
Мотив большого дома-башни занимает центральное место не только в творчестве Платонова, но и в утопическом мышлении вообще, что объясняется его центральным положением в элементарном хронотопе «города»[45]. Известный пример архитектурного проекта будущей жизни в русской культуре — хрустальный дворец Чернышевского, который сочетает внешний облик Сайденхэмского стеклянного дворца с фаланстером Фурье. В утопической традиции подобные здания символизируют конструкцию новой жизни.
В произведениях Платонова утопия дается не в готовом виде, а в становлении; в соответствии с этим мы имеем здесь дело не с готовым домом, а с процессом строительства. Мотив сооружения большого «чудодейственного» «большевицкого» дома «на всех людей» встречается у Платонова в раннем «Рассказе о многих интересных вещах». В «Чевенгуре» представление о доме, защищающем человека от враждебного мира, уже не реализуется. Жители Чевенгура живут в экспроприированных у буржуазии домах, которые передвигаются по городу, чтобы имущество не угнетало пролетариат. Работать и строить чевенгурцы начинают лишь перед самой катастрофой, когда уже поздно. Социализм бродячих мечтателей не принимает твердой структуры утопического города.
В «Котловане», где мотив построения дома помещен в эпоху первой пятилетки, дело обстоит еще хуже. Получается не тот монументальный «единственный общепролетарский» дом, о котором мечтает инженер Прушевский, а яма. В «Чевенгуре» утопический идеал растворяется в бесконечном движении по горизонтали, при этом идея дома разлагается. В «Котловане» вместо положительной восходящей линии строения башни выходит обратное — движение вглубь земли. Это уже совершенное отрицание утопического дома, его превращение в прямую противоположность, в «пропасть» (445)[46].
Носителем мечты о строящемся доме в «Котловане» является прежде всего инженер Прушевский, которому принадлежит идея общепролетарского дома. Но Прушевскому, «проходящему» человеку старой эпохи без веры в будущее, кажется, что не ему суждено завершить эту задачу, а «через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всего земного шара» (428). Перед его внутренним взглядом вырисовываются на горизонте «белые спокойные здания», устроенные «не только для пользы, но и для радости» (462)[47]. Со строящейся башней персонажи повести связывают представление о будущей счастливой жизни. Прушевский пытается предчувствовать «устройства души поселенцев общего дома» и «вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли» (428). Вечный искатель смысла Вощев, который сам начинает «рыть почву вглубь», надеется на то, что «будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть из высоких окон в простертый, ждущий его мир» (423).
Но с общепролетарским домом с самого начала ассоциируется не только будущая жизнь, но и противоположная идея — идея смерти. Изначальная амбивалентность окрашивает сны рабочих: «Одни выражают исполненную надежду, другие предчувствуют собственный гроб в глинистой могиле» (448). Наблюдая Козлова, землекоп Чиклин говорит: «Так могилы роют, а не дома» (424). Повесть кончается тем, что Чиклин на краю котлована копает для умершей Насти глубокую могилу.
Чем глубже и шире роется яма, тем сильнее выступает на передний план символика смерти и могилы, которая расширяется и на окрестные деревни. Гробы крестьян, которые находят в балке, говорят о трагедии крестьянства в годы коллективизации: «У нас каждый живет оттого, что гроб свой имеет» (464). Очень показательно, что крестьяне приходят с требованием получить свои гробы сразу после описания грандиозного видения Прушевского: этот резкий контрастный монтаж как бы обнаруживает несостоятельность его мечты. Слова о том, что белые дома светятся больше, «чем было света в воздухе» (462), свидетельствуют о мнимом характере видения, об обмане зрения. Вся катастрофа деревни суммируется в парадоксальной формулировке того, что мужики рыли землю с таким усердием, «будто хотели спастись в пропасти котлована» (533). Невероятная на первый взгляд сцена с полумертвым мужиком, лежащим в своем гробу, на самом деле основана на фактическом материале: в начале 1930-х годов члены секты федоровцев ждали своего ареста в гробах[48]. Лежание в гробу, связанное с ожиданием конца мира, имеет долгую традицию у русских староверов. Наконец, семантика смерти окрашивает и образ Насти, олицетворяющей все надежды строителей на будущее: Чиклин делает ей «постель на будущее время» (463) и копает могилу. В итоге строительства обще пролетарского дома получается не башня для защиты жизни, а место для мертвых, некрополь. В этом можно увидеть инверсию не только центрального утопического мотива, но, как замечает Т. Зейфрид, также и главного для советской культуры строительного мифа[49], прототипом которого можно считать роман Гладкова «Цемент».