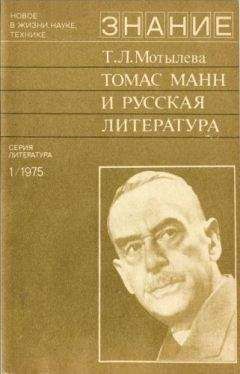После отъезда за границу — 6 июня 1836 года — "Мертвые души" становятся главным трудом Гоголя. В Веве (Швейцария), в Париже, а затем Риме (куда Гоголь приезжает в марте следующего года) он возобновляет работу. По–видимому, в это время складывается окончательный сюжет поэмы, который нам известен по завершенному тексту. "Все начатое (в Петербурге. — Ю. М.) переделал я вновь, обдумал весь план и теперь веду его спокойно, как летопись" (XI, 73), — сообщал Гоголь Жуковскому 12 ноября н. ст. 1836 года. О характере "переделки" говорит такой факт: в петербургской редакции должен был быть "ябедник", очевидно, как персонаж, с которым сталкивался главный герой, скупщик мертвых душ. За неимением прототипа для подобного ябедника Гоголь в октябре 1835 года остановил работу "на третьей главе". Но в известном нам тексте ни в третьей главе (посвященной Коробочке), ни в последующих ябедника как сколько‑нибудь заметной фигуры нет. Гоголь, видимо, перестроил главные сюжетные ходы произведения.
Уточнен и переосмыслен общий план и, так сказать, ракурс произведения. Гоголю теперь ясно, что оно будет состоять из нескольких томов, обнимет Русь не "с одного боку", а со всех сторон ("вся Русь отзовется в нем") и потребует от автора много времени, какое и предвидеть пока трудно. "Огромно велико мое творение, и не скоро конец его" (XI, 75).
Меняется соответственно и обозначение жанра. Это уже не роман, как писал Гоголь Пушкину: "…вещь, над которой сижу и тружусь теперь… не похожа ни на повесть ни на роман…" (XI, 77). Впервые появляется — в письме Жуковскому от 12 ноября н. ст. 1836 года — жанровое определение поэма.
Гоголь ощущает высокое предназначение своего труда, верит, что с его исполнением он совершит нечто великое для соотечественников, для истории России. "Кто‑то незримый пишет передо мною могущественным жезлом. Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами влажными от слез, произнесут примирение моей тени". Гоголь подразумевает бурю, вызванную премьерой "Ревизора" в Петербурге 19 апреля 1836 года. "Мертвые души", как и "Ревизор", скажут современникам горькую правду, но сделают это убедительнее и непреложнее.
В феврале 1837 года, в Париже, Гоголь узнает о гибели Пушкина. Он подавлен, потрясен; он вспоминает о пушкинском совете, о начале работы над поэмой. "Нынешний труд мой, внушенный им, его создание…" (П. А. Плетневу — XI, 89). "Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою" (XI, 91).
Много говорили о том, что Гоголь преувеличивал свою близость к Пушкину, что он даже пустил в оборот некую "легенду" об их дружбе и творческом союзе, — говорили, понятно, в укор Гоголю, но при этом смешивали разные вещи. Отталкивание и творческая полемика автора "Мертвых душ" с Пушкиным несомненна: без этого вообще немыслима преемственная связь двух больших писателей, тем более гениальных. Личные отношения Гоголя и Пушкина, по–видимому, тоже протекали не всегда гладко, но это не ставит под сомнение искренность и правоту приведенных только что строк. Гоголь измерял зрелость и совершенство создаваемого им труда воображаемой оценкой Пушкина; он хотел понравиться Пушкину, вызвать его похвалу, может быть еще более высокую, чем вызывали прежние вещи. Все это так естественно и понятно.
Отныне он рассматривает завершение своей поэмы как "священное завещание" Пушкина. Воля божественная, высшая подкрепляется теперь заветом и вполне реального, земного, хотя и ушедшего уже человека.
По мере продвижения работы Гоголь принимается читать написанное своим друзьям: в августе 1837 года в Бадене — А. О. Смирновой–Россет (присутствовали еще А. Н. Карамзин, сын знаменитого писателя и историка; Л. А. Соллогуб, брат известного писателя, и В. Платонов); в октябре 1838 года в Париже — А. И. Тургеневу; в декабре того же года и в январе следующего в Риме — В. А. Жуковскому… Намеренно или ненароком, но случилось так, что первыми слушателями "Мертвых душ" также были лица из окружения Пушкина.
Осенью 1839 года Гоголь приезжает в Россию для улаживания некоторых семейных дел (нужно было устроить судьбу сестер Лизы и Анны, оканчивающих Патриотический институт). Пребыванием на родине писатель воспользовался для того, чтобы прочитать главы поэмы друзьям и знакомым, вначале в Москве — в доме Аксаковых, у Киреевских; затем в Петербурге — у Жуковского, видного чиновника П. А. Валуева, в доме Карамзиных и, наконец, у Н Я. Прокоповича, своего давнего друга, соученика по нежинской Гимназии высших наук. Всего Гоголь прочел шесть глав, по главу, посвященную Плюшкину, включительно.
Общая оценка была одобрительной, высокой, а если говорить, скажем, об Аксаковых, то восторженной. "…Гоголь — великий, гениальный художник, имеющий полное право стоять, как и Пушкин, в кругу первых поэтов, Гёте, Шекспира, Шиллера и проч." [208], — писал под влиянием прочитанного К. Аксаков. А его сестра Вера Сергеевна выразила свое впечатление такими словами: "Это просто возбуждает удивление, что человек может так творить" [209].
Гоголь был воодушевлен, обрадован. Вновь отправляясь за границу в мае 1840 года, он обещал, что через год вернется с готовым для печати томом. Свое слово Гоголь сдержал, хотя работе над поэмой предстояло претерпеть новые осложнения.
5. "…СПОКОЙНОЕ, ПРАВИЛЬНО РАЗЛИТОЕ ВДОХНОВЕНИЕ"
В конце лета 1840 года, находясь в Вене, Гоголь тяжело заболел. Болезнь имела нервную и психическую подкладку и вылилась в глубокий кризис, в потрясение всего нравственного состава.
Примерно через месяц Гоголь почувствовал себя лучше. Исцеление свое он приписал высшей силе, как раньше приписывал ей успешное продвижение работы над поэмой.
Болезнь Гоголь считал чуть ли не переломным моментом в своем духовном развитии. Может быть, это и преувеличение (ибо любой поворот гоголевского сознания всегда имел предпосылки и истоки в предыдущей стадии), но во всяком случае некоторые мотивы зазвучали теперь значительно сильнее, внятнее. "Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни!" — писал Гоголь и пояснял, в чем новизна. "Многое, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, как я мог их когда‑либо принимать близко к сердцу" (XI, 323). Задачу своего творчества, и прежде всего, конечно, своей поэмы, Гоголь видит в том, чтобы избегать крайностей, резкого обличения, по терминологии того времени, "сатиры". "С тех пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести Мертвые души. Я увидел, что многие из гадостей не стоят злобы; лучше показать всю ничтожность их, которая должна быть навеки их уделом" (VIII, 294).
"С тех пор" — это, правда, не с момента выздоровления, осенью 1840 года, а еще раньше, после чтения первых глав Пушкину. Но возможно, Гоголь смещал хронологию, несколько модернизируя свое мироощущение более раннего периода. Если же смещения не было, то это как раз и говорит о том, что последующая стадия всегда вытекала у автора "Мертвых душ" из предыдущей.
Приглушение "тягостного впечатления" говорило и о другом. Гоголю теперь яснее связь частного с общим, низкого с "великим"; он хочет обнять общий чертеж мироздания, уразуметь его смысл, в свете которого разные мелкие неприятности и "гадости" уже не причиняют той боли, что прежде. Во второй редакции "Портрета" (опубликована в 1842–м), отразившей новое мироощущение Гоголя, говорится о том, каким должен быть настоящий художник: "Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник–создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего… Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве…" (III, 135). Применительно к "Мертвым душам" "намек о божественном, небесном рае" приобретал двойной смысл: нужно было не только увидеть с высокой точки зрения ничтожное, но и запечатлеть путь от него к более значительному и достойному. Высшая разумность русской жизни (а через нее и всего современного человечества) должна была отразиться в самом чертеже поэмы, в соотношении ее частей и в переходах — от первой ко второй, а затем к третьей. Именно в это время, в 1840 году, по–видимому в последние месяцы, началась работа над вторым томом, и вырисовывающаяся перед Гоголем дальняя перспектива ("…дальнейшее продолжение… выясняется в голове моей чище, величественней…" — XI, 322) наполняла его отрадным, обнадеживающим чувством.
Между тем главные усилия Гоголя, естественно, были еще сконцентрированы на доработке первого тома, на его, как говорил писатель, "совершенной очистке". Внося в текст все новые и новые исправления, Гоголь предпринимает его полную переписку. Происходило это уже в Риме, в квартирке на Страда Феличе, где он жил с сентября 1840 по август 1841 года. Вначале поэму переписывал В. А. Панов, молодой литератор, знакомый Аксаковых, поехавший вместе с Гоголем за границу, чтобы помогать ему в его делах. Потом переписку продолжил П. В. Анненков, познакомившийся с Гоголем еще в 1832 году и близкий к его петербургскому кружку нежинских "однокорытников".