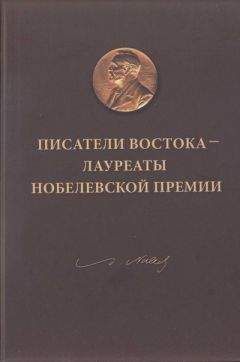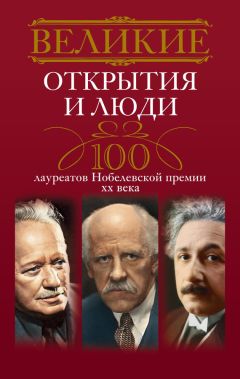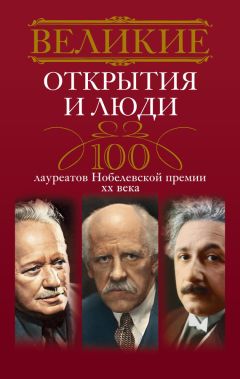Однако, как можно было понять из бледных цветов жизни, которой мы жили в Стамбуле, у мира был некий центр, находящийся далеко от нас. Я много писал в своих книгах о чеховском чувстве провинциальности, к которому приводит осознание реальности, окружающей нас, и о стремлении оставаться самим собой, являющемся следствием этого чувства. При этом я знал и знаю, что большинство людей на земле испытывает те же чувства, что и я, а возможно, даже в еще большей степени переживает подавленность, неуверенность в себе и страх быть униженными. Да, по-прежнему главными бедами человечества остаются бедность, голод, отсутствие крыши над головой… Но об этом сегодня нам рассказывают газеты и телевидение. Литература же теперь освещает и исследует уже совсем другие проблемы: страх ощутить себя вне жизни, вне людей, осознать свою незначительность и ненужность в этом мире, а также связанное с этим чувство собственной ничтожности, возникающее из разбитых иллюзий по поводу своего величия и неповторимости, гнев из-за бесконечных унижений, неизбежно порождающих важничание и национальную похвальбу… При каждом взгляде в темноту, находящуюся внутри самого себя, я понимаю все эти чувства, которые фонтанируют наружу, выражаясь в большинстве случаев в безрассудстве и чрезмерных эмоциях. Мы становимся свидетелями того, что огромные массы людей, сообщества и народы в том мире, который находится вне западной цивилизации, в мире, к которому я и себя причисляю, поддаются мнительным, доходящим до абсурда страхам быть униженными. Я знаю, что и в западном мире, к которому я в принципе тоже легко могу себя причислить, народы и государства с преувеличенной гордостью, переполняющей их в связи с открытием ими Ренессанса, Просвещения и модернизма, временами поддаются чувствам самолюбования и самовлюбленности, доходящим до полного идиотизма.
Значит, не только мой отец, но и все мы придаем слишком большое значение тому, что у мира есть центр. Между тем сила, заставляющая нас закрыться в комнате и писать, является верой в совершенно противоположное. Мы свято верим в то, что однажды всё, что мы написали, будет прочитано и понято, потому что люди во всем мире похожи друг на друга. Но в то же время я знаю, что это ущербный оптимизм, проистекающий из боязни остаться с краю, остаться вне жизни, которая связана с центром. Мне он очень хорошо знаком по всему тому, что написал мой отец, да и по своим собственным произведениям. Я тоже неоднократно ощущал в самом себе чувства любви и ненависти, которые на протяжении всей жизни испытывал Достоевский по отношению к Западу. Великий писатель, опираясь на эти чувства, сумел создать собственный неповторимый мир, который оказался расположенным по другую сторону от его отношения к Западу. И именно этот мир стал для меня основным источником оптимизма, той главной вещью, которую мне удалось почерпнуть у Достоевского.
Все люди, посвятившие себя литературе, знают следующую истину: мир, который мы создаем за столом, с надеждой, печалью и гневом исписывая в течение многих лет тонны бумаги, в конце концов, располагается в совсем других местах, находящихся по другую сторону от нашей надежды, печали и гнева. Разве не было возможным то, что и отец достиг такого мира — мира, который дает нам ощущение чуда, который медленно появляется перед нами после долгого морского путешествия во всех своих цветах, подобно острову в рассеивающемся тумане или подобно Стамбулу, предстающему перед глазами западного путешественника в предрассветной дымке? Там, в конце длительного путешествия, в которое отправляются с надеждой и интересом, и находится этот город с его минаретами и мечетями, домами и улицами, холмами, подъемами и мостами, и находится этот мир. Человек хочет сразу же войти в новый мир, который так неожиданно возник перед ним, и раствориться, исчезнуть в нем, как растворяется хороший читатель на страницах книги. Конечно же, в гневе или полной грусти мы садимся за стол из-за того, что ощущаем себя на периферии, в провинции, вне центра, садимся и открываем совершенно новый мир, заставляющий нас забыть эти чувства.
В противоположность тем чувствам, которые я испытывал в детстве и юности, теперь я уже понимаю, что центром мира для меня является Стамбул. И не только из-за того, что, по сути, вся моя жизнь прошла здесь. Но и из-за того, что вот уже тридцать лет я рассказываю о его людях, улицах, мостах, собаках, источниках, странных героях, лавках, знакомых лицах, чужих и пугающих тенях, темных точках, ночах и днях, отождествляя себя со всем этим. В какой-то момент придуманный мною мир ускользает из моих рук и становится в моей голове более реальным, чем город, в котором я живу. Вот тогда-то эти люди и улицы, вещи и здания как будто начинают говорить друг с другом, строить между собой отношения, которые я прежде и представить себе не мог, и жить сами по себе, словно всё это происходит не в моих мечтах и моих книгах, а в настоящей жизни.
Вероятно, и мой отец, отдав годы литературе, открыл такого рода радости писательского труда. Я же, глядя на его чемодан, убеждал себя отказаться от предубеждения по отношению к его произведениям. Я был ему благодарен и за то, что он не был обычным отцом, который приказывал, оказывал давление своим авторитетом, наказывал, что он всегда предоставлял мне свободу выбора в своих решениях и поступках, что проявлял по отношению ко мне чрезмерное уважение. Иногда я верил в то, что сила моего воображения сможет заработать по-детски свободно, поскольку я, в отличие от многих своих товарищей, в детстве и юности не знал страха по отношению к отцу и искренне полагал, что я смогу стать писателем, поскольку отец в молодости хотел им стать. Я должен был с терпимостью и со снисходительностью прочитать всё то, что он написал, я должен был его понять.
Я открыл чемодан, который всё еще стоял на том самом месте, где оставил его отец, и с этими оптимистически светлыми мыслями, собрав всю свою волю, прочитал некоторые тетради. Так о чем же писал отец? Я помню, что это были короткие зарисовки из жизни Парижа, стихи и, наконец, размышления… Признаюсь, что я ощущаю себя сейчас подобно тому, кто после автокатастрофы с трудом вспоминает то, что с ним произошло, не желая при этом вспоминать особенно многого, хотя и напрягает свой мозг. В моем детстве, когда отец с матерью готовы были вот-вот поссориться, то есть когда один из них замыкался в убийственном молчании, отец, чтобы разрядить обстановку, сразу же включал радио, и музыка заставляла их быстрее забыть случившееся.
Точно так же и я попробую сменить тему одним-двумя словами, которые будут у меня выполнять ту же функцию, что у моего отца музыка. Как вы знаете, самым задаваемым и самым любимым вопросом, обращенным к нам, к писателям, является вопрос: «Почему вы пишете?» Я пишу, потому что это идет из глубины меня, из моей души! Я пишу, потому что не могу выполнять обычную работу подобно тому, как это делают другие. Я пишу для того, чтобы книги были написаны так, как пишу я, и чтобы я их читал. Я пишу, так как я зол на всех вас и на каждого в отдельности. Я пишу, потому что мне очень нравится весь день сидеть в комнате и писать. Я пишу, потому что мириться с действительностью и выдерживать ее я могу только тогда, когда я ее изменяю. Я пишу, чтобы весь мир узнал, как другие, мы, все мы живем в Стамбуле, в Турции. Я пишу, потому что люблю запах бумаги, ручки, чернил. Я пишу, потому что верю в литературу и в искусство романа больше всего на свете. Я пишу из-за привычки и непреодолимого желания. Я пишу, потому что боюсь быть забытым. Я пишу, потому что мне нравятся слава и интерес, которые приносит творчество. Я пишу, чтобы остаться одному. Я пишу с тем, чтобы понять, почему я так сильно разозлился на всех вас и на каждого в отдельности. Я пишу, потому что мне нравится читать. Я пишу для того, чтобы раз уж я начал роман, статью или вот эту страницу, их нужно закончить. Я пишу, потому что все от меня этого ждут. Я пишу, потому что я по-детски верю в бессмертие библиотек и непоколебимость книг, стоящих на полках. Я пишу, потому что жизнь, мир и всё вокруг прекрасны и удивительны настолько, что в это невозможно поверить. Я пишу, потому что необыкновенно приятно и увлекательно переводить в слова всю эту красоту и богатство жизни. Я пишу из-за того, что я получаю удовольствие, сочиняя истории. Я пишу, чтобы спастись, избавиться от чувства того, что я, как будто во сне, совершенно не могу поехать в другое место, в которое нужно поехать. Я пишу, потому что совершенно не могу быть счастливым.
Через неделю после того, как оставил мне чемодан, отец снова пришел в мою контору, как всегда с кульком шоколадных конфет (он забывал, что мне сорок восемь лет). Как обычно, мы обменялись сплетнями о жизни, политике, нашей семье, посмеялись. На какое-то мгновение глаза отца устремились в тот угол, где стоял чемодан, и он понял, что я его брал и открывал. Мы встретились глазами. Воцарилась тишина, вызывающая тоску и смущение. Я не сказал ему, что я открывал чемодан и старался прочитать то, что в нем находится. Я стыдливо отвел глаза. Но он понял. И я понял, что он понял. И он понял, что я понял, что он понял. Тишина, свидетельствующая о том, что мы понимаем ситуацию, длилась всего несколько секунд, ровно столько, сколько она должна была продлиться.