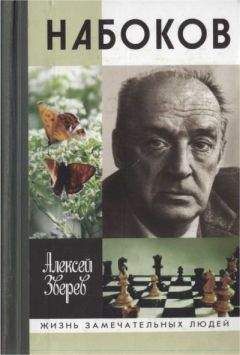В «Знаках и символах» та же тема — философская, как бы ни стремился Набоков возвести непроницаемую стену между искусством и областью «больших идей», — приобрела отчетливые драматические оттенки. Двое стариков, навещающих в лечебнице своего психически больного сына, — люди, в чьей судьбе впрямую отразился катастрофический век, сделавший их беженцами сначала из еврейского гетто в Минске, куда добралась Гражданская война, а потом из Европы, где многим их сверстникам были уготованы газовые камеры. У сына необычное заболевание: ему кажется, что все происходящее в мире надлежит воспринимать как тайные знаки, которые указывают на истинную природу его собственного жизненного опыта. И чем более жестоким становится смысл, открывающийся ему за этим вселенским шифром, тем неодолимее искушает мысль о самоубийстве.
Произойдет ли оно и на самом деле в тот наполненный зловещими предзнаменованиями день, когда старики ездили к сыну последний раз? Случайно ли застрял в тоннеле поезд подземки, а ток дали только через четверть часа? Случайно ли попался им на глаза полумертвый птенец, барахтавшийся в луже рядом с автобусной остановкой? К сыну их не пустили, подарок — баночки с джемами — пришлось везти обратно, а дома начались странные телефонные звонки: спрашивали какого-то Чарли. Рассказ кончается, когда опять звонит телефон, внушающий старикам чувство ужаса.
Есть много интерпретаций этой новеллы, занимающей всего пять страниц. Ее называли экспериментом Набокова в необычном для него жанре мистического повествования с открытым финалом, который позволяет очень по-разному представить развязку событий. Говорили о еще одной попытке проникновения в потусторонность. Болезнь персонажа, так и не появившегося на сцене (врач сказал о нем, что у него «мания причастности» — своей причастности ко всему на свете и, наоборот, прямого вторжения всего происходящего в его частный мир), впрямую связывали с травмирующим опытом ранних лет, когда в окружающем мире бушевали волны варварства.
Набоковым предусмотрены все эти контексты. Но все же выделен тот, который сопрягается с мотивом иллюзии или мнимой достоверности, пытающейся узурпировать права бесспорной истины, однако никогда ей не тождественной. Окончательного смысла не придается ни одному знаку, ни один из символов не приобретает абсолютного значения. Вопреки напрашивающейся логике, рассказ завершается на неопределенной ноте.
Она для Набокова естественна, потому что согласуется с его представлениями о литературе, которая становится настоящей лишь при том условии, если выраженный ею смысл невозможно передать языком логических выкладок и формулами здравомыслия. Один из студентов, слушавших набоковские курсы в Корнелле, куда мэтр вскоре перебрался из Уэлсли, вспоминает, как они в классе разбирали роман Диккенса «Холодный дом». Набоков нарисовал на доске несколько стрелок, сложившихся в причудливого вида рисунок. Все это были «темы», такие, например, как нищета, ужасные экономические условия, интриги из-за наследства, общественное недовольство и еще кое-что в том же роде. Затем, из соединения этих стрелок, появлялась изогнутая линия, которая обозначала «тему искусства». И выходило, что эта зигзагами идущая кривая придает рисунку сюжетность: на доске была кошачья физиономия, украшенная улыбкой во всю пасть. Догадливым или начитанным не стоило труда догадаться о смысле и происхождении этого образа. Разумеется, «Алиса в стране чудес», Чеширский кот, который умел исчезать, так что в воздухе оставалась одна его бесплотная улыбка. Не то же ли самое происходит и с творениями истинного художника, когда их пробуют толковать так, словно это пособия по социальным вопросам или философские рассуждения в облегченной форме?
И все-таки в те первые годы после войны иной раз перо самого Набокова становилось бичующим — в самом прямом значении слова, — а злободневность выбираемых им сюжетов была самоочевидной. Видимо, это впрямую не относится к «Bend Sinister», хотя как раз в пору работы над романом о Падукграде Набоков писал сестре: «Душка моя, как ни хочется спрятаться в свою башенку из слоновой кости, есть вещи, которые язвят слишком глубоко, например, немецкие мерзости сжигания детей в печах, — детей, столь же упоительно забавных и любимых, как наши дети. Я ухожу к себе, но там нахожу такую ненависть к немцу, к концлагерю, ко всякому тиранству, что как убежище ее n’est pas grande chose… [не многого стоит. — франц.]» Случалось, однако, что подобные чувства прорывались открыто, как в написанном еще весной 1945-го рассказе «Отрывок из разговора» (русским переводчиком он зачем-то переименован в «Групповой портрет»).
Сначала рассказ назывался «Двойной счет». У него есть своя предыстория. В Нью-Йорк перебрался из Парижа Марк Слоним, критик и журналист, когда-то издававший пражскую «Волю России» с ее отчетливо левой, а порой почти «просоветской» ориентацией. Слоним приходился (по отцу) дальним родственником Веры, и когда в один из нечастых наездов Набоковых в Нью-Йорк за каким-то обедом произошла их встреча после шести лет скитаний по миру, присутствующие ожидали бурной радости с обеих сторон. Но со стороны Набокова ее не последовало. Как раз напротив, было ясно обозначено, что разговаривать им не о чем и незачем. Слоним за годы войны полевел еще больше и, как показалось Набокову, не прочь был восславить величие Сталина (в действительности до этого дело никогда не доходило). Сознание, что с таким человеком его соединяют какие-то узы, было непереносимым.
В рассказе у повествователя есть однофамилец, о котором не так сложно составить представление по косвенным свидетельствам и разрозненным деталям. Он фат и бабник, украсивший физиономию тщательно подбритыми усами, он монархист, квасной патриот и дремучий антисемит, усердный читатель липовых «Протоколов сионских мудрецов»: весь набор качеств, наиболее отвратительных Набокову. По ошибке, снова и снова повторяющейся многие годы, рассказчика приглашают на вечеринку в Бостоне, где ждали, конечно, его полного тезку. Вот он был бы тут в родной стихии.
Гостей потчуют политическим мыслителем германского происхождения, которому вскоре предстоит занять кафедру немецкого языка в колледже на Среднем Западе. Мыслитель озабочен историческими судьбами своего отечества, которое капитулировало, проиграв войну из-за безумств фюрера, страшно все запутавшего, а потому повинного в столь печальной развязке событий. Никакой неизбежности в том, чтобы Германия потерпела поражение, однако же, не было, а если логично рассудить, и сама немецкая катастрофа не должна восприниматься как возмездие за преступления перед человечеством. Их не было, этих преступлений, были лишь выходки фюрера и чистый энтузиазм германских юношей, которые, вступая в завоеванный польский или русский городок, верили, что утверждают порядок, справедливость, счастье. А евреи упорно не желали взять этого в толк, оказывали сопротивление, принуждавшее к ответным действиям. Что оставалось делать, как не заключить под стражу особенно озлобленных из их числа? Это разумное действие отнюдь не вызывалось расовыми предрассудками. И какое отношение имеют пресловутые лагеря смерти к обустройству побежденного рейха?
Среди слушателей профессора, очень советующего не доверять пропаганде, которая раздувает слухи про зверства оккупантов, — на самом деле они были истинные рыцари и намерения у них всегда оставались самые лучшие, — есть бывший царский полковник (впрочем, очень может быть, что просто какой-то авантюрист из тех, кто замечательно описан Набоковым в довоенном рассказе «Лик»), Такие, как Мельников, в войну, понизив голос, шептали по углам: «Я бы тех жидов Гитлеру оставил, нехай он их всех в землю закопает живыми» (услышав эту фразу в эшелоне с эвакуированными где-то под Семипалатинском, Ахматова отреагировала немедленно: «Таких надо убивать!»). Еще не началась антисемитская кампания, известная под названием «борьбы с космополитизмом», Сталин еще не во всех деталях продумал собственный план окончательного решения еврейского вопроса. Однако Мельников верно почувствовал, куда дует ветер. И от души радуется, что во главе России опять стоит настоящий патриот, заботливый хозяин, выдающийся державный ум.
В газете Набоков прочел о приеме в советском посольстве, на который были приглашены остатки русского Парижа. Первые послевоенные месяцы еще держались иллюзии в том роде, что сталинский режим обязательно переменится, смягчится, и что перед лицом пережитой смертельной опасности должны отступить идейные размежевания, создававшие непримиримость в отношениях эмиграции с метрополией. Многих заворожила зыбкая перспектива диалога после двадцати с лишним лет противостояния. Давний литературный противник Набокова Георгий Адамович написал по-французски книжку «Другая родина», воспринятую многими в русском Париже как явное капитулянтство.