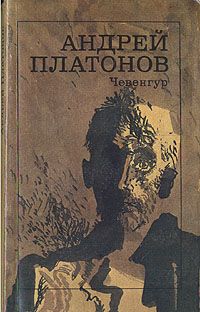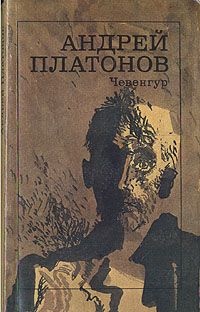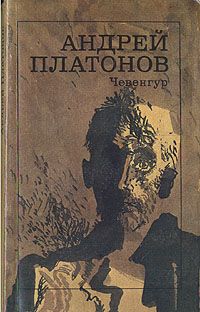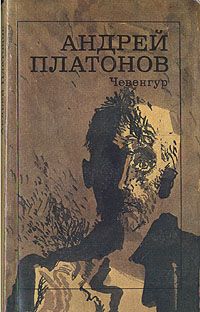Сам Федоров боролся с тем агрессивным духом «молодости», который пропагандировал еще Ф. Ницше. Он полемизирует с тезисом немецкого философа о вреде и «чрезмерности» истории, упрекает его в непонимании истории и «забывчивости, обратившей нас в бродяг, не помнящих родства и лишившихся цели» (2, 150). Ницше, воспринимавший историю только как факт, а не как проект, видел музей «лишь каков он есть, а не тем, чем он должен быть», а кладбище не как место воскрешения, а как «место разложения и забвения» (2, 130). На примере диаметрально противоположной семантизации ключевых мотивов кладбища и музея антагонистические интенции в оценке памяти в эпоху модерна выступают особенно ярко.
По своей внутренней логике проект Федорова подчинен центральной задаче воскрешения отцов, т. е. восстановлению памяти. Но в период подъема утопической мысли в первые десятилетия XX века именно научно-фантастическая сторона этого проекта привлекала к себе главное внимание: «патрофикация неба», т. е. превращение неба в жилище отцов; «катастеризация», т. е. перенесение душ отцов на звезды; сооружение аэростатов и воздушных крейсеров для использования атмосферного электричества и метеорологической регуляции; психофизиологическая перестройка человека и замена деторождения «отцетворением» (1, 407), т. е. создание нового целомудренного человека.
Многими авторами идеи Федорова зачастую заимствовались вне изначальной мотивации. Оторванные от контекста «общего дела», они превращались из служебных элементов философии памяти в стимулы научно-фантастического воображения. Федоровскими идеями увлекались сторонники русского прометеизма и биокосмизма[84], иммортализма[85] и интерпланетаризма. Некоторые мотивы Федорова оказались близкими к художественному авангарду, хотя многие художники были знакомы с идеями Федорова лишь понаслышке. Вряд ли можно предполагать, что кто-либо из них прочитал два толстых тома «Философии общего дела» от корки до корки.
Но их читал внимательно Андрей Платонов, занимающий среди читателей Федорова особое место. В соответствии с общей атмосферой эпохи революции, ранняя публицистика и фантастические рассказы писателя изобилуют утопическими мотивами. Иногда трудно сказать, восходят ли они прямо к Федорову или же просто носились в воздухе времени. Напомним лишь о таких статьях воронежского периода, как «Свет и социализм», «Электрические воздушные линии» или «О культуре запряженного света». Как нам известно из «Рассказа о многих интересных вещах», кроме электричества и «светотехники» молодого писателя интригует и «антропотехника», т. е. создание нового целомудренного человека. Описание искусства будущего в терминах вселенской скульптуры и планетной архитектуры, а также мысль о том, что искусство станет лишним, поскольку «материя и сознание будут одно»[86], напоминают конечную стадию эстетически завершенной и материально реализованной памяти у Федорова. Платонов обращает внимание прежде всего на такие мотивы из «Философии общего дела», которые соответствуют его пролеткультовским воззрениям тех лет.
Главное, однако, в том, что, в отличие от многих других авторов, использовавших федоровские идеи, лишь Платонов на протяжении всего своего творчества широко раскрывает более глубокие пласты федоровской философии памяти. Очень показательны в этом смысле такие произведения, как «Чевенгур» и «Котлован». В «Чевенгуре» местом встречи и диалога осиротевшего Саши Дванова с мертвым отцом является опустошенное кладбище, где Саша роет себе землянку, чтобы быть рядом с отцом и чувствовать его теплоту. В городе Чевенгур отец является сыну во сне и требует от него прервать скуку вечно повторяющейся истории: «Делай что-нибудь в Чевенгуре. Зачем мы будем мертвыми лежать»[87]. Когда становится ясно, что круговорот истории все-таки продолжается, Саша уходит к отцу в озеро Мутево «в чувстве стыда жизни перед слабым, забытым телом, остатки которого истомились в могиле, потому что Александр был одно и то же с тем не уничтоженным, теплящимся следом существования отца»[88].
Близость к Федорову отражена не только в глубокой привязанности Саши к отцу, но и в центральной для «Чевенгура» теме безотцовщины, которая бросает свет на обратную сторону проблематики — на отсутствие отцовского начала. Кроме Саши Дванова и Копенкина, так называемые «прочие» и «безродные товарищи» большевики являются «бродягами, не помнящими родства» в федоровском смысле. В «Философии общего дела» последняя стадия истории характеризуется именно как «конец сиротства» (2, 202), а братство будущего описывается как «весна без осени, утро без вечера, юность без старости, воскресение без смерти» (2, 202). В Чевенгур же приходят осень, вечер и смерть — следовательно, это еще не конец всеобщему сиротству.
Саша Дванов из «Чевенгура» и его собрат по духу Вощев из «Котлована» — «собиратели памяти»[89] — стараются сохранить прах предков и частицы прошлого. Если у Саши Дванова это проявляется как живая связь с отцом, то в «Котловане» акцент перемещается на восстановление забытой жизни прошлых поколений, на возмещение за человеческие страдания правдой конца истории. Эта проблематика затрагивается уже в «Чевенгуре», где Дванов поднимает разные мертвые вещи и возвращает их на прежние места, «чтобы все было цело в Чевенгуре до лучшего дня искупления в коммунизме»[90].
В «Котловане» тема «собирания памяти» выступает на передний план. Вощев прячет отсохший лист в свой мешок, где он собрал «всякие предметы несчастья и безвестности», обосновывая свой поступок словами: «Ты не имел смысла житья, <…> лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить»[91]. Хранению и памяти здесь приписывается спасительная сила, направленная на приведение в равновесие нарушенного порядка космоса. Пустой мешок, куда Вощев складывает все «вещественные остатки потерянных людей, живших, подобно ему, без истины, и которые скончались ранее победного конца»[92], символизирует эту собирательную деятельность воскрешающей памяти. Не менее символично и то, что собранные для будущего отмщения ветхие вещи, «каждая из которых есть вечная память о забытом человеке»[93], передаются Насте, олицетворению будущего, в качестве игрушек. В результате получается мифический образ девочки — персонификации будущего, играющей осколками раздробленного мира. Но у Платонова космологический миф инверсируется. Смерть Насти говорит о том, что собирание частиц прошлого не приводит к его восстановлению и искуплению.
В своем художественном изображении деятельности по собиранию памяти Платонов подхватывает представления, заложенные в проекте «общего дела», но его мотивации совпадают с замыслом Федорова только частично. В основе федоровской мысли лежит операция деметафоризации метафоры воскрешения. Подобную метафору мы находим, например, в предисловии к «Истории государства российского» Н. Карамзина. «История, — пишет автор, — отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слова в уста, из тления вновь созидая царства <…> расширяет пределы нашего собственного бытия»[94]. В «Истории» встречается и метафора сосуществования поколений, которую мы находим у Федорова. Карамзин пишет, что благодаря истории «мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим»[95]. У Федорова метафора, характеризующая работу историка, принимает прямой, нефигуральный смысл и превращается в «проект».
Герои Платонова, вслед за Федоровым, собирают следы прошлого в прямом смысле, но в этой собирательной деятельности надо видеть средство художественной конкретизации образа. Буквальное же понимание воскрешения предстает скорее в ироническом освещении, как можно заключить из высказывания: «Марксизм все сумеет. Отчего ж тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждет — воскреснуть хочет»[96].
В восприятии Платоновым идей Федорова проявляется характерная динамика. Чем более писатель удаляется от юношеского пролеткультовского утопизма, тем ярче выступают глубинные пласты проблематики памяти. «Философия общего дела» остается настольной книгой Платонова, но происходит значительная смена доминант — перемещение акцента с утопического космизма на осмысление роли памяти в развитии послереволюционной России. Если взгляд молодого энтузиаста был устремлен в будущее, то уже к середине двадцатых годов писатель понимает гибельность такого одностороннего подхода.
В «Чевенгуре» тематике памяти отводится существенное место. С одной стороны, в образе Саши Дванова отражено стремление к сохранению тесной связи между сыном и отцом; с другой стороны, в лице безотцовщины[97], оторванной от материальной обеспеченности и культурной идентичности, показывается судьба безродной толпы, служащей материалом всяческой манипуляции и готовой прислушиваться к любым лжеотцам. В «Котловане» угроза беспамятства принимает еще более острые формы. Отрицательные персонажи строят дом будущего, не учитывая прошлого. В конце умирает сама надежда. В связи с работой над «Котлованом» Платонов характеризует современного человека следующими словами: «Это голый — без души и имущества, в предбаннике истории, готовый на все, но не на прошлое»[98].