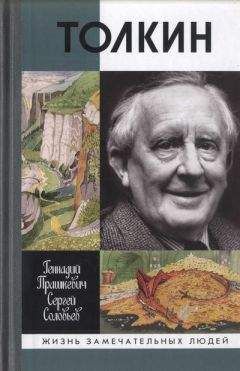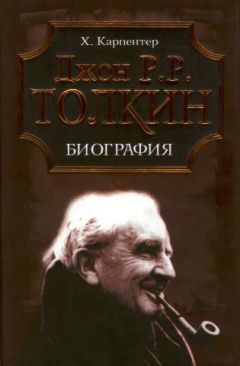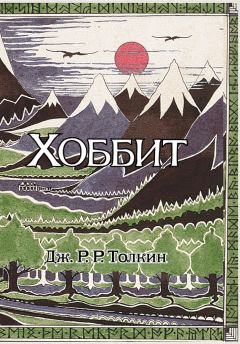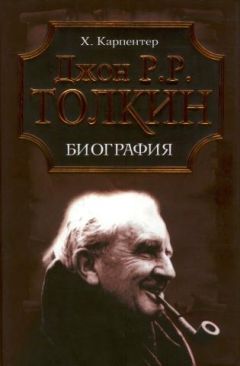В сентябре возобновились занятия в школе, но Мэйбл очень не хотелось покидать гостеприимный домик почтальона Тила. Дымный и грязный воздух Бирмингема приводил ее в ужас и уныние. В результате Рональду некоторое время пришлось ходить пешком до железнодорожной станции, а возвращался домой он так поздно, что Мэйбл приходилось встречать его в потемках с фонарем в руках.
А потом состояние Мэйбл вновь начало ухудшаться. В начале ноября она внезапно потеряла сознание. Случилось это прямо на глазах у испуганных детей. Мэйбл впала в диабетическую кому, помочь ей никто не смог, и 14 ноября 1904 года она скончалась. У изголовья ее бедной кровати сидели Мэй Инклдон, Рональд, Хилари и отец Фрэнсис.
Реднол, чудесный рай, был потерян навсегда.
Глядя в пенную воду,
Завороженно, одна,
Дни напролет у моря
Молча стояла она,
В погоду и в непогоду,
С вечной печалью во взоре,
Словно найти свободу
Чаяла в синем просторе,
Морю навеки верна.
Томас Гарди[42] 1
Толкин всю жизнь считал свою мать мученицей.
«Когда я задумываюсь о ее смерти, — писал он в январе 1965 года своему сыну Майклу, — о гонениях, нищете и недугах, которые в значительной мере явились следствием ее попытки передать нам, малышам, истинную веру; когда я вспоминаю крохотную спаленку, которую она делила с нами в домике почтальона в Редноле, — спаленку, где она умерла в одиночестве, даже не причастившись перед смертью, так усилился ее недуг, мне очень горько и тяжко от мысли, что мои собственные дети сейчас сбиваются с пути и уходят (от Церкви. — Г. П., С. С.). Да, Ханаан совсем по-другому воспринимается теми, кто ступил на Землю обетованную, выйдя из пустыни; и жители Иерусалима более поздних времен зачастую, наверное, казались глупцами или подлецами, или даже хуже. Но in hac urbe lux solemnis[43] — эти слова всегда казались мне правдивыми. „В своих блужданиях по свету“ я встречал раздражительных, бестолковых, не исполнявших своего долга, тщеславных, невежественных, лицемерных, ленивых, подвыпивших, жестокосердных, циничных, скупых, алчных, вульгарных, исполненных снобизма и даже (предположительно) безнравственных священников; но в моих глазах один отец Фрэнсис перевешивает их всех, а он был испано-валлийцем, тори, выходцем из высшего общества, и многие считали его старым бездельником-снобом и болтуном. Да, он был таким — и в то же время не был. От него я впервые узнал о милосердии и прощении, свет их пронзил даже тьму „либерализма“, из коей я вышел, больше зная о „Марии Кровавой“[44], нежели о Матери Иисуса — о которой, если и упоминалось, то лишь как об объекте греховного поклонения папистов»[45].
2
Все лучшее в себе Толкин считал полученным от матери. Он рос воспитанным ребенком, умел блеснуть юмором, точной фразой. Обожал спорт, прогулки, деревья, травы, любил долгие беседы с друзьями, — смерть матери отбросила на все это траурную тень. На могиле Мэйбл в Бромсгроуве отец Фрэнсис Морган поставил простой крест. В завещании она назначила именно его опекуном своих сыновей, и это был ее последний очень важный, многого стоивший подарок мальчикам: духовник никогда не забывал Рональда и Хилари. У него имелся небольшой, но постоянный доход от семейной торговли хересом, а еще Мэйбл оставила на банковском счету сумму в 800 фунтов — проценты с нее шли на содержание братьев.
Жизнь Рональда в эти годы напоминает типичный диккенсовский сюжет. Его окружали люди не во всем обычные, каждый со своими странностями и причудами. Например, Роберт Кэри Гилсон[46], директор школы короля Эдуарда, очень любил изобретать. В числе его изобретений числилась ветряная мельница, заряжавшая электрические батареи, от которых работал гектограф для размножения экзаменационных заданий для школы (весьма неудобочитаемых, по свидетельству самих школьников). Еще Гилсон носил аккуратную заостренную бородку, совсем не в английском стиле, но чудачества нисколько не портили его уроков — он прекрасно преподавал классические языки. Благодаря этому Рональд с еще большим интересом стал заниматься лингвистикой.
Отец Фрэнсис не решился оставить сыновей Мэйбл у их родственников — Саффилдов или Толкинов. Он помнил, как враждебно приняли близкие Мэйбл ее переход в католичество, и боялся, что теперь они с той же агрессивностью начнут отрывать мальчиков от церкви. Некоторое время Рональд и Хилари жили в доме их дальней родственницы — тети Беатрис Саффилд, видимо, потому, что она к религии относилась без всякого рвения. Дом ее стоял неподалеку от оратория, на Стирлинг-роуд, в бедном районе Бирмингема — Эгбастоне. На третий этаж в комнату мальчиков вела узкая скрипучая лестница. Хилари нравилось кидать камешками в кошек, пробегающих внизу; он вполне принял новое жилье, но Рональду навсегда остались ненавистны темные крыши соседних домов и такие же темные фабричные трубы. На горизонте проглядывала узкая полоска леса, но она была так далеко, что Рональда этот вид только угнетал. Ему казалось, что смерть матери навсегда оторвала его от чудесной жизни деревьев. Незадолго до переезда мальчиков тетя Беатрис овдовела и теперь с трудом сводила концы с концами, и настроения мальчиков ее совершенно не интересовали. Однажды Рональд застал ее у печи, в которой она жгла письма его матери. Он спросил, зачем она это делает, и тетя в ответ пожала плечами: кому они теперь нужны, эти бумажки?
К счастью, ораторий находился близко. Церковь стала для Рональда и Хилари настоящим домом. По утрам они сразу бежали в молельню и там помогали отцу Фрэнсису во время мессы. Потом вместе завтракали. Потом пешком шли в школу. Ораторианским священникам (и прежде всего отцу Фрэнсису) хватило мудрости одобрить такой порядок — когда мальчики учатся в лучшей школе Бирмингема, пусть и не католической, и одновременно с удовольствием принимают участие в жизни оратория, чувствуя, что и на них ложится доля ответственности.
3
В пятом классе школы Рональд открыл для себя поэму «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», написанную на староанглийском языке неизвестным автором еще в XIV веке. В ней говорилось о сэре Гавейне, одном из рыцарей Круглого стола, храбром, всегда верном данному слову. Забегая вперед скажем, что в будущем именно Толкин сделал один из самых лучших переводов-пересказов поэмы на современный английский. Он близко принимал к сердцу то, что на языке поэмы говорили его предки, и с энтузиазмом вникал в тонкости староанглийского языка.
Заодно Рональд занялся старонорвежским, поскольку ему очень хотелось прочесть в оригинале сагу о Сигурде и драконе Фафнире, которую он знал по «Красной книге» Эндрю Лэнга. Так что, говоря о чудаках, о странностях и причудах окружающего мира, надо помнить, что и самому Толкину свойственны были странности. Ну, в самом деле, кто по доброй воле стал бы столь усиленно заниматься «мертвыми» языками? И кто так часто мог бегать на железнодорожную станцию не для того, чтобы просто глазеть на пышущие паром мощные паровозы (о которых так живо написал в те годы Киплинг в своем сборнике «Дни работ»), а чтобы читать волшебные надписи на грузовых вагонах. Через Бирмингем многие поезда шли в Уэльс. Гламорган, Ллантрисант, Кередигион, Кармартен — для Рональда эти слова звучали как музыка. Валлийские названия, валлийский язык всегда его будоражили. Он чувствовал за ними какую-то загадку.
4
В старших классах школы Рональд увлекся еще одним языком — готским. Наверное, этому помогала мрачная атмосфера дома тети Беатрис. Рональд не просто изучал язык, на котором давно уже никто не говорил, — он анализировал и дополнял его. Он придумывал новые слова, которыми когда-то могли пользоваться сами готы. Известны слова Толкина об изобретении слов и языков: «Это отнюдь не редкость, знаете ли. Детей, у которых имеется то, что можно назвать творческой жилкой, куда больше, чем принято считать, — просто это стремление к творчеству не ограничивается какими-то определенными рамками. Не все любят рисовать, не все хотят заниматься музыкой — но большинству хочется что-нибудь создавать. И если основной упор в образовании делается на языки, творчество примет лингвистическую форму. Это явление настолько распространено, что я в свое время подумывал о необходимости целенаправленно его исследовать»[47].
У самого Толкина интерес к языкам вылился в настоящую страсть.
«Многие дети сами создают некие воображаемые языки, — писал он. — Я сам занимался придумыванием языков с того момента, как научился писать. И так никогда и не остановился в этом (подобно остальным ученикам), хотя, разумеется, как у любого профессионального филолога (в особенности интересующегося лингвистической эстетикой), у меня со временем поменялся вкус, я усовершенствовался в теории и, возможно, в ремесле. За моими историями стоит целый узел необычных языков, в которых, к сожалению, структура только намечена. Но, скажем, тем удивительным созданиям, которые по-английски обычно зовутся (неправильно) эльфами, теперь приписываются сразу два почти завершенных языка, история которых подробно мною описана, а грамматические формы научным образом выведены, опять же мною, из общего источника…»[48]