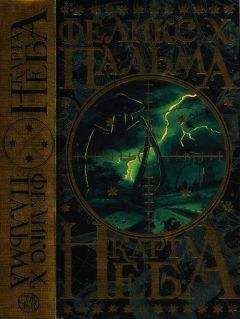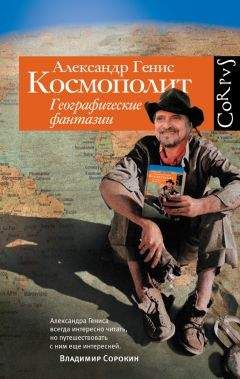Короче, Довлатов преувеличивал свое кулинарное безразличие, потому что оно входило в его символ веры: «Нельзя, будучи деклассированным поэтом, заниматься какими-то финскими обоями».
Писательство не оставляет просвета. Оно должно действовать с астрономическим постоянством. Автора и книгу соединяют особые причинно-следственные связи — как пол и шкаф. Вмятина, которую он оставляет на ковре, — результат постоянного давления.
Под таким давлением прогибается не только пол, но и реальность. Она ведь эластична, правда не больше, чем автомобильная покрышка.
Впрочем, чаще мне представляется сырая луговая тропа: шаги продавливают почву, стекают струйки воды, тропинка становится канавой. Так искажается топография часто посещаемого нами пятачка реальности. Писатель упирается в действительность до тех пор, пока не оставит на ней свой след. Если это ему удалось, мы с удивлением обнаруживаем, что жизнь подражает литературе. Вымысел изменил реальность. Слово — буквально — стало плотью.
Хармс мечтал писать такие стихи, чтобы ими можно было разбить окно, как камнем.
Фокус тут в постоянстве. Писатель всегда и всюду занят одним: он ждет, пока сквозь него, как бамбук в китайской пытке, прорастет литература.
Становясь писателем, автор до последней капли отжимает из жизни все, что не является литературой. Но и тогда вместо входного билета ему достается лотерейный.
3
Жизнь Довлатова с литературой была настолько долгой, что, как брак, требовала законного оформления — печати. Не рукопись, как у Булгакова, а книга — главная довлатовская героиня.
Сейчас печатный станок не отличается от того, что печатает деньги: бумага с краской. Но в прошлой жизни книга меняла дело. И не только потому, что ее можно было обменять на «финские обои». Как всякий обряд, книга была пустой и необходимой формальностью. Выход в свет — инициация, впускающая автора в литературу не на его, а на ее условиях.
Мне это понять было трудно. Магия типографии меня не задевала — я там работал, метранпажем в русской газете. Этажом ниже располагалась книжная лавка девяностолетнего эсера Мартьянова, известного тем, что он промахнулся, стреляя в Ленина. В его магазине я всего навидался — от тома «Гоголь в КГБ» до монографии, начинающейся словами: «Как всем известно, Атлантида располагалась на месте затонувшей Лемурии». В эмиграции ничего не стоит напечататься. Вернее, стоит, но не так уж дорого, поэтому и книг тут — как семечек.
Довлатов к печати относился иначе. Конечно, и в России хватало книг, которым он придумал общий заголовок «Караван уходит в небо», но они не мешали Сергею ценить ритуальную природу литературы.
Виртуальная самиздатская книга существует в мире идей наравне с прочими абстракциями. В ней есть привкус необязательности, произвольности и призрачности. Рукопись — как ногти: интимная часть автора, которая со временем начинает его тяготить. Жить слишком долго с рукописью негигиенично, духовно неопрятно. Заражая автора, ненапечатанная рукопись начинает гнить, мешая расти новому. Жидкий, неокоченевший в типографских строчках текст провоцирует уже напрасные перемены. Это как со взрослыми детьми — недостатки неоспоримы, но пороть поздно. Только похоронив рукопись в переплете, автор освобождается от ощущения неокончательности текста. Опубликовав его, он может хотя бы на время избавиться от несовершенства.
Не ставшая книгой рукопись — кошмар целого поколения. Его голосом и был Довлатов, дебютировавший издательской фантасмагорией — «Невидимой книгой».
Сумев материализовать в «Ардисе» свой первый призрак, Довлатов не уставал издаваться. Гостивший у него Рейн рассказывал московским друзьям: «Довлатов сочинил два метра литературы».
Сергею нравилась грубая материальность книги, ее неоспоримая вещность, уверенная укорененность во времени. Книга — пропуск в библиотеку будущего. Вечно возившийся с литературным завещанием, Довлатов к этому будущему относился с до сих пор непонятной мне ответственностью.
Сергей верил в необходимость литературной преемственности. Всякая книга для него формально не отличалась от тех, что написаны классиками. Определенно об этом Сергей высказался на конференции Третьей волны в Лос-Анджелесе: «Любой из присутствующих может обнаружить в русской культуре своего двойника».
Трагедия всякой «невидимой книги» в том, что она продолжает литературу извращенным способом. Довлатов же жаждал нормы. Поэтому и в перестроечной России он отдавал предпочтение не авангардистам и частникам, а официальным государственным издательствам. «Хочу получить сдачу, — говорил Сергей, — там, где обсчитали». Им руководила жажда не мести, но порядка, что, впрочем, одно и то же.
Довлатова настолько раздражало обычное у русских противоречие между формальным и фактическим, что когда в очередной газетной разборке ему предложили формально уступить пост главного редактора ради фактического руководства «Новым американцем», он решительно предпочел первое второму.
Свое писательское положение он оберегал с щепетильной решительностью. За год до смерти Сергей писал в Ленинград: «Я хотел бы приехать не просто в качестве еврея из Нью-Йорка, а в качестве писателя, я к этому статусу привык, и не хотелось бы от него отказываться даже на время».
Я думаю, это не высокомерие, а суеверие. Он надеялся — как все авторы, тщетно, — что писательский статус избавит его от «привычного страха перед чистым листом бумаги». Ради этого Довлатов доказывал себе то, в чем никто и не сомневался. Он всю жизнь боролся за право делать то, что всю жизнь делал. Эта борьба стала драмой и сюжетом его литературы.
Похоже, что к концу его самого утомила эта цепь тавтологий. В последнем интервью Довлатов сетовал на то, что относился к литературе «с чрезмерной серьезностью».
Сейчас мне кажется, что тема разочарования в литературе могла бы захватить Довлатова не меньше, чем очарование ею. Что-то такое он и мне говорил, но я не слышал. Тогда мне это даже глупостью не казалось — так, шум. Ницше утверждал, что мы можем прочесть только то, что уже и сами знаем.
4
Между жизнью и книгой у Довлатова помещалась газета — всю жизнь он провел в редакциях. Без печатного органа Сергей начинал тосковать и тогда не брезговал самой незатейливой периодикой — и женскими журналами, и юмористическими, покровительствовал даже одноразовой газете с невероятным названием «Мася».
При этом журналистику Сергей не любил, думаю — искренне. Он не дорожил чужим мнением, так же как и собственным, которое было либо случайным, либо банальным. Цифры его раздражали, факты — особенно достоверные — тоже. Оставались только литературные детали, которые он обкатывал на полигоне газетной полосы.
Далеко не все, что Довлатов тут сочинял, было халтурой. И все же не зря он утверждал: «Когда я творю для газеты, у меня изменяется почерк».
Газета была дорога ему другим — «типичной для редакции атмосферой с ее напряженным, лихорадочным бесплодием».
В газете Довлатов чувствовал себя увереннее, чем в литературе, потому что тут у него был запас мощности, как у автомобиля с шестью цилиндрами. Сергей смотрел на газету как на арену не своих, а чужих литературных амбиций.
В редакции люди особенно уязвимы, ибо они претендуют на большее, чем газета способна им дать. Кажется, что она увековечивает мгновение, на самом деле газета лишь украшает его труп. Однако в самой эфемерности газеты заключен тонкий соблазн — есть благородство в совершенстве песчаного замка.
Газете свойственна туберкулезная красота. Скоротечность газетной жизни придает ей — опять-таки туберкулезную — интенсивность. Здесь с болезненной стремительностью заводятся романы, рождаются и умирают репутации, заключаются союзы, плетутся интриги.
Постоянство перемен, броуновское движение жизни, неумолчный гул хаоса — в газете Довлатов находил все, из чего была сделана его проза. Поэтому и в нашем «Новом американце» он вел себя не как редактор, а как режиссер. Сергей следил за игрой ущемленных им амбиций, сочувствовал оскорбленным им самолюбиям, вставал на защиту им же попранных прав.
Газета была его записной книжкой, его черновиком, его романом. Может быть, потому Довлатову и не удалась повесть «Невидимая газета»: она была лишь копией с оригинала.
1
И мать и жена Довлатова служили корректорами. Неудивительно, что он был одержим опечатками. В его семье все постоянно сражались с ошибками.
Не делалось скидок и на устную речь. Уязвленные довлатовским красноречием собеседники не раз попрекали его тем, что он говорит, как пишет. В его речи действительно не было обмолвок, несогласований, брошенных, абортированных предложений. Что касается ударений, то ими он способен был довести окружающих до немоты. Я, например, заранее репетировал сложные слова. Но и это не помогало: в его присутствии я делал то идиотские, то утонченные ошибки. Ну кто, кроме Довлатова, знал, что в слове «послушник» ударение падает на первый слог?