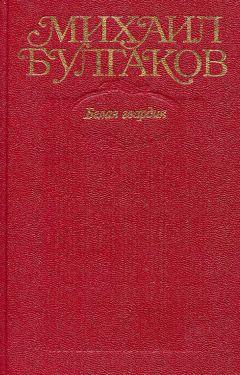Такой образ управдома был слишком прозрачен, чтобы пройти даже самого тупого цензора. Поэтому во второй редакции «Блаженства» Бунша доказывает Рейну: «Моя мать, Ираида Михайловна, во время Парижской коммуны состояла в сожительстве с нашим кучером Пантелеем. А я родился ровно через девять месяцев и похож на Пантелея». Тут исчезли слова о судебной ошибке и невозможности из-за нее включиться в новую жизнь — намек на осуществленное после 1917 года поражение в правах бывших дворян (на Ленина такое поражение, разумеется, не распространялось). Учитывая время существования Парижской коммуны — с сентября 1870 по март 1871 года — дата рождения Бунши уверенно переносилась на 1871 год, что уменьшало сходство с Лениным. Намек теперь был на то, что мелкие начальники — домовые тираны вроде пьяницы Бунши родились благодаря успешной пролетарской (или социалистической) революции. Первым образцом такой революции марксисты считали Парижскую коммуну. Однако и данный намек оказался цензурно неприемлем. Поэтому в окончательном тексте пьесы остались только достаточно безобидные уверения Бунши, что он — сын кучера Пантелея, без каких-либо подробностей.
Весь эпизод с бывшим князем, притворившимся кучером, был подсказан Булгакову опубликованной в 1924 году в журнале «Русский современник» «Тетрадью примечаний и мыслей Онуфрия Зуева». Ее автором был Евгений Замятин. В заметке «Онуфрия Зуева» «Нотабене: сообщить куда следует (что бывший князь укрывается под чужой фамилией)» он писал: «Открытие о том сделано мною совместно с Максимом Горьким. Вчера в сочинении Максима Горького „Детство“ я прочел стихи:
„И вечерней, и ранней порою / Много старцев, и вдов, и сирот / Под окошками ходит с сумой, / Христа ради на помощь зовет“. Причем Горький сообщает, что означенные стихи писаны (бывшим) князем Вяземским. Однако те же стихи обнаружены мною в книге, называемой „Сочинения И. С. Никитина“. Из чего заключаю, что под фамилией Никитина преступно укрылся бывший князь, дабы избежать народного гнева».
Ляп Горького, спутавшего стихи крестьянского поэта Ивана Саввича Никитина со стихами князя Петра Андреевича Вяземского, юмористически обыгран Замятиным со злым намеком на поощряемое новыми властями доносительство по отношению к скрывающим свое прошлое «бывшим». Булгаков перевернул ситуацию зеркально: бывший князь Бунша упорно рядится в личину сына кучера, что не мешает ему донести «куда следует» об открытии Рейна-Бондерора — машине времени, из которой появился царь Иоанн Грозный. В пьесе же «Иван Васильевич», написанной по канве «Блаженства», Бунша вообще носит двойную фамилию: Бунша-Корецкий, приняв вторую ее половину от своего мнимого отца-кучера.
Однако художественно пьеса «Блаженство» оказалась слабой. При чтении ее в театре сцены будущего никому не понравились. 28 апреля 1934 года Булгаков сообщал П. С. Попову: «25-го читал труппе Сатиры пьесу. Очень понравился всем первый акт и последний. Но сцены в „Блаженстве“ не приняли никак. Все единодушно вцепились и влюбились в Ивана Грозного. Очевидно, я что-то совсем не то сочинил».
В новой редакции пьесы, получившей название «Иван Васильевич», все действие построено на том, что в результате капризов машины времени, изобретенной инженером Тимофеевым, на месте Ивана Грозного оказывается управдом Бунша, а на месте управдома — сам царь Иван Васильевич. Сатира заключается в том, что подмену царя никто не замечает и невежественный пьяница-управдом управляет государством, не изменяя кардинальным образом хода исторических событий. Зато для царя роль управдома оказывается не под силу.
2 октября 1935 года Булгаков у себя на квартире впервые прочел «Ивана Васильевича» актерам и режиссерам Театра Сатиры. Комедия была принята, по выражению Елены Сергеевны, «с бешеным успехом» — «все радовались весело». По цензурным соображениям в процессе подготовки к постановке Булгаковым была написана до апреля 1936 г. вторая редакция пьесы, где, в отличие от первой, все происходящее представлено как сон инженера Тимофеева. Были также устранены некоторые наиболее острые эпизоды, в частности, лекция о свиньях по радиорепродуктору и слова Тимофеева в финале, когда его арестовывает милиция: «Послушайте меня. Да, я сделал опыт. Но разве можно с такими свиньями, чтобы вышло что-нибудь путное?..» Как и в «Роковых яйцах» и «Собачьем сердце», объектом сатиры оставалось невежество и безграмотность населения и власть предержащих. 17 октября 1935 года Е. С. Булгакова описала в дневнике реакцию на пьесу в Главреперткоме: «Пять человек в Реперткоме читали пьесу, все искали, нет ли в ней чего подозрительного. Так ничего и не нашли… Замечательная фраза: а нельзя ли, чтобы Иван Грозный сказал, что теперь лучше, чем тогда?» 29 октября 1935 года пьесу разрешили при условии ряда изменений и дополнений в тексте.
«Иван Васильевич» был доведен Театром Сатиры до генеральной репетиции 13 мая 1936 года, но не допущен до постановки после снятия МХАТом «Мольера».
Булгаков показал деградацию тирании в России со времен Грозного до советской эпохи, от жестокого и величественного царя Ивана до жалкого управдома Бунши, который способен властвовать в Москве XVI века только с помощью умного жулика Жоржа Милославского — родного брата бессмертного Остапа Бендера. Драматург, перефразируя вызвавшие неудовольствие Реперткома слова Бунши, рассказал «про советскую жизнь такие вещи, которые рассказывать неудобно». Автор пьесы не преувеличивал роль личности в истории (ничего принципиально не изменится, если царя заменить пьяницей управдомом), но, в отличие от своего любимого писателя Льва Толстого, не отрицал ее вовсе. В комедии все преступления, казни и опричнину творит все же настоящий Иван Васильевич Грозный, а не внешне неотличимый от него управдом Иван Васильевич Бунша.
Главной же для Булгакова в первой половине 30-х годов, без сомнения, стала пьеса о Мольере. 3 октября 1931 года Главрепертком разрешил ее к постановке (название «Кабала святош» цензуре не понравилось и было снято — видимо, чтобы не порождать ненужных аллюзий). 12 октября того же года Булгаков заключил договор о постановке пьесы с ленинградским Большим драматическим театром, а 15 октября — с МХАТом. Однако выход «Мольера» в Ленинграде сорвал рядом критических статей в местной прессе драматург Всеволод Вишневский, видевший в Булгакове не только идейного противника, но и опасного конкурента. 14 марта 1932 года БДТ известил Булгакова об отказе от пьесы. Автор «Мастера и Маргариты» отплатил Вишневскому, зло спародировав его (через лавровишневые капли) в образе критика-конъюнктурщика Мстислава Лавровича.
Во МХАТе судьба пьесы тоже сложилась не очень благополучно. Репетиции затянулись на пять лет, превратившись для актеров и режиссеров в изнурительный марафон. 5 марта 1935 года спектакль (без последней картины «Смерть Мольера») был наконец показан Станиславскому. Ему постановка не понравилась, но основные претензии отец-основатель Художественного театра предъявил не к актерской игре, а к булгаковскому тексту: «Не вижу в Мольере человека огромной воли и таланта. Я от него большего жду. Если бы Мольер был просто человеком… но ведь он — гений. Важно, чтобы я почувствовал этого гения, не понятого людьми, затоптанного и умирающего… Человеческая жизнь Мольера есть, а вот артистической жизни — нет».
«Гениальный старик» словно чувствовал цензурную неприемлемость той главной идеи, которая была у Булгакова, — трагическая зависимость великого комедиографа от ничтожной власти — напыщенного и пустого Людовика и окружающей его «кабалы святош». Потому-то Станиславский стремится несколько сместить акценты, перенести конфликт в план противостояния гения и не понявшей его толпы. Даже сатирическая направленность творчества Мольера, очевидно, казалась Константину Сергеевичу не столь опасной. Станиславский считал: «Ведь Мольер обличал всех без пощады, где-то надо показать, кого и как он обличал». 22 апреля 1935 года Булгаков отправил ему письмо, где отказался переделывать пьесу, утверждая, что «намеченные текстовые изменения… нарушают мой художественный замысел и ведут к сочинению какой-то новой пьесы, которую я писать не могу, так как в корне с нею не согласен», и предложил забрать пьесу из театра. В результате Станиславский согласился текст не трогать и решил попытаться добиться торжества своих идей только посредством режиссуры и игры актеров. На этот раз его система не сработала, труппа практически не смогла играть в предложенном ключе. В конце мая 1935 года Станиславский отказался от репетиций. За постановку взялся Немирович-Данченко.
Тем временем в стране развертывалась очередная идеологическая кампания. 28 января 1936 года Елена Сергеевна записала в дневнике: «Сегодня в „Правде“ статья без подписи „Сумбур вместо музыки“. Разнос „Леди Макбет“ Шостаковича. Говорится о „нестройном сумбурном потоке звуков“… Что эта опера — „выражение левацкого уродства“… Бедный Шостакович — каково ему теперь будет». Она еще не предполагала, что начавшаяся кампания по борьбе с формализмом очень скоро заставит ее и окружающих думать «Бедный Булгаков!», поскольку самым печальным образом скажется на судьбе «Мольера».